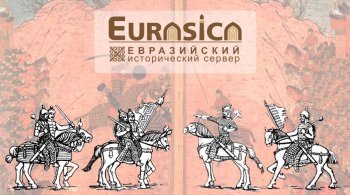
Оригинал: // Синхронное и диахронное в сравнительно-историческом языкознании. Материалы VII Международной научной конференции по сравнительно-историческому языкознанию (Москва, 31 января - 2 февраля 2011 г.). Стр. 119-125.
Тюркская языковая семья относится к числу наиболее проблематичных для генеалогической классификации. Преобладающее число классификаций совмещает лингвистические критерии с историческими или географическими. Наиболее известной из них является классификация, сделанная Н.А. Баскаковым.
Для лингвистической классификации важно уметь определять исторические и современные языковые контакты и отделять их результаты от исконных совпадений, а также от изоглосс, развившихся независимо, но давших похожие или одинаковые результаты. В противном случае может быть подгонка под результат. Для более точных результатов необходимо выявление признаков (и даже хотя бы одного признака), указывающих на древность языка или языковой группы A по отношению к языковой группе B, разделяющейся на ряд более близких языков или диалектов, в частности, вычисление несвязанных изоглосс. В результате такой процедуры независимо от их количества несвязанные изоглоссы исключаются при сравнении групп. Кроме того, нужно уметь выявлять признаки, развившиеся в конкретной группе вторично и потому не указывающие на древность. Эти признаки также при сравнении групп должны исключаться. Необходимым является построение иерархии признаков: от признака, указывающего на древнейшее разделение, до мелких признаков, разделяющих выявленные группы на подгруппы. При этом хотя бы в одной из групп (подгрупп) все выбранные признаки должны быть значимыми.
Например, в классификации Н.А. Самойловича при сохранении выделенных им таксонов (с учетом и современных поправок) и иерархии признаков соотношение значимых и обнуляемых критериев выглядит так (оригинал см. в [Самойлович 2005: 77—91]).
Табл. 1. Классификация тюркских языков по Н.А. Самойловичу с иерархией признаков
| критерий | ||||||
|
группа |
*ŕ > r/z |
*-d-, -d |
*bol ‘быть’: −b-/+b- |
-ağ |
-Iğ |
-ğAn |
|
булгарская |
r |
0 (r) |
0 (+) |
0 (-u = -au) |
0 (-I) |
0 (-nI) |
|
уйгурская: древнетюркская, саянская, якут-ская, хакасская, карлукско-уйгур-ская, в т.ч. аргу (халаджский) |
z |
D |
0 (+) |
0 (-ağ) |
0 (-Iğ) |
0 (-ğAn) |
|
огузская |
z |
j |
− |
0 (-ağ) |
0 (-I) |
0 (-An) |
|
кыпчакская, киргизско-кыпчакская |
z |
j |
+ |
-AU |
0 (-I) |
0 (-ğAn) |
|
огузские диалекты узбекского |
z |
j |
+ |
-ağ |
-I |
0 (-ğAn) |
|
карлукско-хорезмийская, северноалтайская |
z |
j |
+ |
-ağ |
-Iğ |
0 (-ğAn) |
В пределах большой группы d (уйгурской) важным является признак конкретной реализации звука, признаки тыа и ыы выделяют якутскую группу. В пределах большой группы j значимость признака суффикса -ğan можно было бы увеличить при постановке его после признака формы глагола ‘быть’. Эти два признака фактически были бы равноправны.
Рассмотрим классификацию тюркских на основе следующей предварительной подборки признаков.
Табл. 2. Классификация тюркских языков на основе предварительной подборки признаков
|
критерий |
*ŕ r/z, r |
-LAR −/+ |
-I/-sI gram/ phon |
сохранение долгого гласного во втором слоге |
оглушение звонких после сонантов −/+ |
pal/vel |
*-d-, *-d |
||
|
группа |
*siŋȫk: long/short |
*bVńğōŕ: ō/U, I |
ld > lt, nd > nt, rd > rt |
*bVńğōŕ |
*til/tıl |
||||
|
булгарская |
r |
− |
gram |
0 |
0 |
0 (+) |
0 |
0 |
0 (r, j, D) |
|
якутская |
z, r |
+ |
phon |
long |
ō (= uo) |
0 (−) |
0 (vel) |
0 (vel) |
0 (t) |
|
огузская |
z, r |
+ |
phon |
short |
U, I |
− |
0 (vel) |
0 (pal) |
0 (j) |
|
саянская |
z, r |
+ |
phon |
short |
U, I |
+ |
vel |
vel |
0 (d) |
|
древне-тюркская |
z, r |
+ |
phon |
short |
U, I |
+ |
? |
vel |
D |
|
хакасско-уйгурская |
z, r |
+ |
phon |
short |
U, I |
+ |
pal |
? (vel/ pal) |
D = d, ð, z |
|
карлукско-кыпчакская |
z, r |
+ |
phon |
short |
U, I |
+ |
pal |
pal |
j |
1. Булгарская группа отделяется от собственно тюркской сразу по трем признакам: последовательному ротацизму, отсутствию формы т.н. множественного числа на -LAR и грамматическому распределению двух показателей принадлежности. Классификационными признаками булгарской группы не являются чередование ламбдаизма и сигматизма (чередование такое по принципу Е.А. Хелимского наблюдается во всех тюркских подгруппах и отличается в булгарских лишь наибольшей регулярностью, см. [Хелимский 2000: 248, 256—257, 266]), второй ротацизм и чередование r // d, аналогичное чередованию d // t в орхоно-енисейском, смягчение зубных перед узкими неогубленными гласными. В то же время мы не можем утверждать о значении общетюркского -LAR как показателя именно множественного числа.
2. Якутская группа отделяется по признаку сохранения долгих гласных во втором слоге (и, возможно, в следующих). В значительном ряде слов мы обнаруживаем долгие гласные за пределами первого слога при отсутствии аналогичной долготы в туркменском. Причем, например, в тюркских коррелятах слова уҥуох ‘кость’ идет чередование узких и широких гласных, но в коррелятах слова мойуос (модьуос, муос, моос) второму широкому гласному в якутских соответствует узкий гласный в остальных тюркских. Этот факт соответствий нуждается в объяснениях, но незаслуженно игнорируется, не рассматривается в существующих классификациях, хотя именно он мог бы быть основанием для отделения якутских диалектов от остальных тюркских групп, в частности, от саянской или тем более хакасской или карлукско-уйгурской, в то время как отпадение начального s- или развитие в t звуков d, z, s, š критериями, выделяющими якутскую группу, не являются, поскольку, видимо, развились уже после обособления.
3. Огузские языки, производящие на первый взгляд впечатление ближайших к карлукско-хорезмийским, кыпчакским и, вероятно, центрально-восточным (горноалтайским) — из-за j, могут на деле оказаться вторыми по времени отделения после якутских. Во всяком случае, такой напрашивается вывод из-за отсутствия оглушения звонких после сонантов (чаще всего это ld, nd, rd > lt, nt, rt), отмеченного еще в древнетюркских и распространенного в той или иной степени в остальных тюркских, особенно в регионах, ближайших к предполагаемому месту распространения древнетюркской речи. Отсутствие аналогичного оглушения в якутских и предполагаемое наличие в булгарских признаки незначимые.
4. Саянские языки отделяются от оставшихся тюркских сохранением твердых гласных в слове ‘рог’ (мыйыс). В хакасских, карлукско-уйгурских (в халаджском не отмечено), карлукско-хорезмийских, кыпчакских и центрально-восточных передний ряд, в древнетюркских слово это не обнаружено.
5. Хакасско-уйгурские и карлукско-кыпчакские, рано, по-видимому, разделившиеся, противопоставляются друг другу по признаку реализации пратюркского интервокального и конечнослогового *d. В хакасско-уйгурских зубные рефлексы d, z, ð, в карлукско-кыпчакских j. Древнетюркские (орхоно-енисейский, уйгурский рунический, енисейско-кыргызский) имеют зубные рефлексы, но данных по этой языковой группе для установления ближайших родственных связей недостаточно.
В результате проведенной подборки критериев с их анализом оказалось, что огузские языки не являются ближайшими к остальным языкам группы j, а кроме того, карлукские языки новой формации не противопоставлены кыпчакским, а составляют с ними одну подгруппу, в то же время саянские и якутские языки, несмотря на зубные рефлексы пратюркского интервокального и конечнослогового *d, не являются ближайше родственными хакасским, а также между собой (и кроме того — якутские отделяются вторыми после булгарских от тюркских), ближайшими к хакасским являются карлукские старой формации, представленные на сегодняшний момент только аргу (халаджским). Отсутствует специфическое единство и между карлукскими старой и новой формации. Для определения родственных связей древнетюркских на данный момент недостаточно информации, но максимальное сходство с ними демонстрируют хакасско-уйгурские и карлукско-кыпчакские.
Примечание. Разделение выделенных таксонов на более глубоком уровне делается по локальным критериям, но в тех случаях, когда нет достаточных лингвистических критериев, приходится прибегать к косвенным лингвистическим, историческим и географическим (например, для доказательства огузского характера печенежского или булгарского, вероятно, волжско-камского характера хазарского; обособленность саларского от остальных огузских тоже демонстрируется в основном на исторических критериях).
Литература и источники
Ашмарин Н.И. Материалы для исследования чувашского языка. Казань, 1898.
Баскаков Н.А. Тюркские языки. М., 1960.
Диалекты тюркских языков. Очерки. М., 2010.
Дыбо А.В. Лингвистические контакты ранних тюрков: лексический фонд: пратюркский период. М., Вост. лит. 2007.
Мудрак О.А. Классификация тюркских языков и диалектов с помощью методов глоттохронологии на основе вопросов по морфологии и исторической фонетике. М., РГГУ. 2009.
Самойлович А.Н. Тюркское языкознание. Филология. Руника. М., 2005.
Сравнительно-историческая грамматика тюркских языков. Региональные реконструкции. М., 2002.
Сравнительно-историческая грамматика тюркских языков. Пратюркский язык-основа. Картина мира пратюркского этноса по данным языка. М., 2006.


Рекомендуемые комментарии
Комментариев нет