
Erchis
-
Постов
502 -
Зарегистрирован
-
Посещение
-
Победитель дней
5
Тип контента
Информация
Профили
Форумы
Галерея
Сообщения, опубликованные Erchis
-
-
День рожденья Чингисхана длился год
Споры о нем не затихаютhttp://www.pseudology.org/tatary/Chingiz_Han3.htm
 В мае 2002 года в Улан-Баторе начали отмечать 840-летие со дня рождения Чингисхана, основателя монгольского государства. Торжественные мероприятия открылись закладкой первого камня в фундамент мемориального комплекса Чингисхана в Центральном парке культуры и отдыха.
В мае 2002 года в Улан-Баторе начали отмечать 840-летие со дня рождения Чингисхана, основателя монгольского государства. Торжественные мероприятия открылись закладкой первого камня в фундамент мемориального комплекса Чингисхана в Центральном парке культуры и отдыха.
В церемонии принял участие президент Монголии Нацагийн Багабанди. Мемориальный комплекс будет включать в себя семь юрт великого полководца, расположенных по кругу.
Они будут возведены на каменных основаниях в виде черепах. В центре будет установлена 20-метровая скульптура Чингисхана, а по периметру -- 17-метровые изваяния его девяти военачальников. По предварительным данным, на строительство мемориала потребуется около 19 млн долларов. Празднование 840-летия со дня рождения Чингисхана растянулось до конца года и нашло самые разные отклики.
2
Известный советский писатель Чингиз Айтматов разразился разоблачительной статьей: "В наше время в разных странах возрождается культ насилия, зловещие тираны прошлого возводятся на пьедестал величия, в их честь воздвигаются памятники и целые музеи. Именно такие обстоятельства, по моему мнению, способствовали возникновению в России движения фашиствующих молодчиков-скинхедов, а также позволили во Франции Ле Пену, лидеру ультраправых, победить в первом и выйти во второй тур президентских выборов...".
При чем тут Ле Пен, по-моему, и сам писатель не понял, но дальше заговорил о, видимо, наболевшем (ведь его по иронии судьбы тоже зовут Чингиз. -- Н.О.) -- о том, что в Казахстане много чингизидов и казахи считают себя потомками Чингисхана. "Хотя одному Богу известно, кто был отцом Чингисхана: Есугей-багатур или меркит Чиледу, невестой которого была отбитая Есугеем его мать Оэлун". (Надо же какой живой интерес к интимной жизни предков! -- Н.О.)
И заканчивает Айтматов так: "Даже если допустить родственность общих корней, дает ли это нам моральное право простить кровавые завоевания Чингисхана?" Его мысль о том, что простить никак нельзя, поддерживает другой писатель Мухтар Шаханов. Намекает, мол, пусть монголы перед казахами принесут покаяние.
3
Почин уже сделан: "Я рад за своего друга, первого монгольского космонавта Гуррагчу, который на встрече с моими земляками в районном центре Отрара нашел в себе нравственное мужество попросить у собравшихся прощение за зло, совершенное когда-то его предками".
Хотя при чем здесь монголы? Пусть сами казахи каются. Ведь именно в Казахстане развернулась борьба за право считать основателя монгольского государства не монголом, а казахом. Писатель и историк Аким Тарази утверждает, что это "Россия в своих целях относила Чингисхана к монголам, чтобы лишить казахов своей истории".
На интернетовском сайте казахи доказывают, что Чингисхан -- это их прямой дедушка-тюрк: "Не следует забывать, что прародительница монгольского народа из племени куралас, который входит в состав казахского народа". "Чингисхан был тюрком, а не монголом. Мать Чингисхана и его жена Борте принадлежали к казахскому роду Конырат".
4
Скульптор Шота Валиханов недавно ездил в Монголию, где его встречали с большим почетом как чингизида. Там он выяснил, что в Монголии не сохранилось ни одного живого чингизида -- они их всех поубивали, в то время как в Казахстане их тысячи и тысячи. В Казахстане их всегда почитали и уважали. Любой чингизид (да и почти любой казах) знает свою родословную на 14 колен назад, а чингизиды, разумеется, до самого Чингисхана".
Не отстают в стремлении присвоить себе право на предка Чингисхана даже русские (хотя, казалось бы, жестокий он был, бесчеловечный, просто позор любой нации).
Математик А.Т. Фоменко в своем бестселлере "Правильно ли мы понимаем историю" прямо говорит: "Монголы Батыя -- это русские воины. Никакого нашествия на Русь не было, а татаро-монгольская Орда -- это вооруженные силы русских князей Юрия (Чингисхана) и Ивана (Батыя) Даниловичей, захвативших впоследствии Монголию и Пекин". Во как! Так что неизвестно, кто перед кем теперь должен извиняться.
Мне интересен Чингисхан. И я не каюсь
В мае мне неожиданно пришло приглашение из Улан-Удэ принять участие в международной научной конференции "Чингисхан и судьбы народов Евразии", которую будет проводить Бурятский государственный университет. Для тех, кто понимает, событие это для России экстраординарное -- о Чингисхане у нас не принято было говорить с большой трибуны.
Мой знакомый профессор-историк, узнав о съезде ученых в Улан-Удэ, запальчиво сказал: "Ну, скоро будут проводить конференции, посвященные Гитлеру", и долго не мог остановиться, вспоминая ужасы монголо-татарского нашествия. Я слушала его аргументы и факты и улыбалась. Вот стоим мы с ним в центре Азии, люди европейского происхождения и образования, практически ничего не зная об истории земли, на которой живем.
Сибирским городам меньше 400 лет, а империи Чингисхана скоро будет 800. И мы не знаем языка, на котором говорили воины Покорителя Вселенной и их жены, и в большинстве не можем прочитать в подлиннике даже скудные первоисточники... А отношение к монгольскому императору, жившему восемь веков назад, все такое же по-детски однозначное -- злодей и поработитель.
Ну, может, если бы этот историк не написал восторженное послесловие к книге Бушкова "Россия, которой не было", где доказывалось, что Чингисхана вообще не было, я бы вступила в дискуссию. А так собралась и поехала в Улан-Удэ.
Тем более что этот историк написал вслед за Бушковым другую книгу -- "Россия, которой не было-2", где Бушкова развенчал. В общем, было интересно встретиться с другими специалистами. Тем более в Бурятии я никогда не бывала.
Самый образованный народ России
Кто бы вы думали? Буряты. Они занимают по количеству людей, имеющих высшее образование, второе место в стране (256 человек на 1000) после евреев. Почему я начинаю свой рассказ о конференции с этого факта? Да потому что, сидя в зале заседаний, ужасалась собственному невежеству.
Историки свободно общались на трех-четырех языках. Самая замечательная иллюстрация этому случилась на заключительной пресс-конференции, когда японский профессор Танака Катухико стал переводить на русский язык речь монгольского академика Далая. Причем переводил он только для русских, все буряты монгольский и так понимают.
При этом Танака извинялся, что русский знает не очень хорошо -- он его выучил в поезде. Вот немецкий знает лучше. Ни у кого, кроме русских журналистов, не было проблемы и с переходом, например, с русского на английский, а тем более на бурятский. В утешение себе могу сказать, что был доклад аспирантки БГУ, которая на примере монголов, живущих в Японии, доказала, что способность усваивать иностранные языки заложена в монголоидной расе генетически.
Наверное, у меня просто этих генов нет. В связи с тем, что конференция длилась всего три дня, а участников, которые делали доклады, было 100, выслушать всех, а тем более даже кратко описать об их открытиях в газете нет возможности. Поэтому просто обозначу основные темы. Ну, во-первых, где же покоится отец народов?
Узнают ли родные, где могилка его?..
Летом 2001 года прошло сообщение, что в Монголии в 360 километрах от Улан-Батора найдена могила Чингисхана. Нашла ее археологическая экспедиция под руководством профессора Чикагского университета Джона Вудса. Место известно среди местных жителей под названиями Замок Чингиза или Красная скала.
В 56 километрах от захоронения была найдена еще одна могила, в которой похоронено около сотни солдат, -- это, по мнению Вудса, те самые солдаты, которых, согласно легенде, убили, чтобы скрыть место гибели Чингисхана. Правда, через пару дней сенсация не подтвердилась и было опубликовано опровержение...
Годом раньше китайские археологи тоже нашли "подлинную" могилу Чингисхана в Уйгурии -- на севере Синьцзян-Уйгурского автономного района, в районе города Чингиль (Цинхэ). Их версия тоже не подтвердилась. К тому, что могилу находят с известной регулярностью, кажется, все привыкли.
2
Есть версия, что Чингисхан может быть похоронен и в России -- в Читинской области или Бурятии. Дело в том, что он родился в урочище Делюн-Болдок на реке Онон. Это неподалеку от села Цасучей, центра Ононского района Читинской области. Ну а Бурятия рядом, и, главное, там есть самое знаменитое пресное озеро мира -- Байкал.
Почему бы Повелителю Вселенной не упокоиться там? Об этом очень интересно говорил преподаватель физкультуры из Северо-Байкальска Александр Георгиевич Клементьев, показывая при этом потрясающие кадры видеозаписи.
Трагедия тайны могилы Чингисхана заключается в том, что сначала сами ее хранители наложили великий запрет. После распада Монгольской империи правители всех стран панически боятся возрождения этого государства и делают все возможное, чтобы уничтожить его историю, предать забвению имена его вождей и разбить на мелкие осколки его народ.
3
Начиная с августа 2000 года я разрабатываю версию о том, что родовой могильник императоров Монголии XII-XIV вв. находится на берегах Северного Байкала. Великий хан был прекрасно осведомлен, что многочисленные и многотонные блоки египетских пирамид и гигантские насыпи скифских курганов не сберегли саркофаги их повелителей от осквернения.
Чтобы избавить от этой участи себя и своих последователей, он не стал строить подобные сооружения и свою мечту превзойти их по своей недоступности, величественности и красоте осуществил с поражающим воображение блеском. Памятником его роду послужило творение, созданное матерью-природой, по сравнению с которыми все пирамиды и гробницы мира являются жалкими пародиями. Это место я нашел. Почему же не может найти это место ученый мир планеты?
На севере Байкала во время раскопок найдены стоянки монгольских скотоводов. Но когда сюда пришли русские казаки, они удивились тому, что не встретили там людей. Остались только древние кладбище, крепости, башни. Дело в том, что после захоронения Чингисхана на это место был наложен великий запрет, там нельзя было проживать и охотиться.
После смерти хана около двух лет об этом не сообщали народу. В это время в великое запретное место было согнано около двух тысяч рабов и начато строительство подземного мавзолея. Все строители и воины, их охранявшие, были поголовно уничтожены после окончания работ. Выполнив истинное захоронение великого хана, его сыновья и хранители объявили траур и провели обряды погребения еще в восьми местах.
Это было сделано для удобства поклонения его праху народом и для дезинформации искателей приключений. В этих местах были поставлены белые юрты и насыпаны каменные курганы. Но эти места захоронения были ложными. В сказании говорится: "И 8 белых юрт станут вечными устоями твоего государства". Дело в том, что девятая юрта является запретной, о ней даже нельзя было упоминать. Число 9 -- сакральное.
4
У нас на Байкале самую высокую гору (2600 метров) местные жители называют Покойницкой. Так вот, если смотреть на эту гору в ясную погоду, когда еще горы темные, а небо светлое, мы там увидим гигантское горбоносое лицо, как будто вычерченное пером художника. Я думаю, что это изображение сделано рукой человека. Фактически, эта гора является сфинксом.
Чингисхан знал об египетских пирамидах, знал, что там есть дорога в царство мертвых, сфинксы, и он выбрал это место исходя из того, что там есть величайшая дорога в царство мертвых -- Байкал, гигантская пирамида высотой 2600 метров, есть и сфинкс. Таким образом он превзошел всех египетских фараонов и скифских вождей.
Там же есть много интересных древних сооружений, культовых пещер, заброшенных шаманских мест. На вершине кургана установлен гигантский чашеобразный камень на пяти подпорках, а сверху него еще один, такой же, вместе они образуют "глаз". Когда смотришь в этот "глаз", видишь следующий курган, который находится в десятке километров. И таких курганов 20. Природа так сделать не могла. Рядом мы обнаружили каменный карьер.
Вообще, я противник того, чтобы проводить какие-то раскопки, искать могилы, сокровища. На сегодняшний день моя цель -- привлечь внимание ученого мира, чтобы они сделали для начала хотя бы обзорную экспедицию или хотя бы поклониться этим местам.
Правда, после такого рассказа хочется бросить все и лететь с Александром Георгиевичем на север Байкала? Но опять-таки на эту версию нашлось возражение.
Глава бурятских шаманов Б.Д. Базаров сказал: "Нет никакой могилы Чингисхана, тем более на озере Байкале. У Байкала есть хозяин -- реальная личность, которого потом ввели в пантеон божеств Иркутской области. Это -- эвенкийский Пестрый Бык. Великие ханы не простые были люди, а перерожденцы шаманов, великих кузнецов. Их кремировали, и прах закладывали на самую высокую горную вершину. Это место становилось сакральным. Есть 99 великих гор, на вершинах которых хоронили великих ханов. Чингисхан относится к разряду небесных божеств, поэтому на многие вещи сегодня существует табу сверху. Не надо искать могилу Чингисхана. Я как шаман просто советую".
Поиски императора Вселенной продолжаются
И дело не в том, что с Чингисханом, может быть, были погребены несметные богатства. И, конечно, не в том, что усопший 775 лет назад хан сможет ответить на загадки своей жизни. Ведь ищут захоронение не только искатели кладов и мистики, но и серьезные археологи. Дело в том, что от великой империи монголов сохранилось очень мало материальных свидетельств.
Не сохранилось ни одного прижизненного изображения Чингисхана. Ни в одном музее мира нет подлинных воинских доспехов чингизидов. В Историческом музее Москвы есть, например, монеты Хазарского каганата, но нет ни одной монгольской. Это удивительно, потому что металлических предметов более древних времен в музеях предостаточно, но об историческом периоде XII-XIV вв., когда монгольские воины завоевали полмира, материальных предметов найдено очень мало.
В отличие от более древних оседлых цивилизаций с городами, грандиозными храмами и каменными изваяниями, хорошо сохранившимися до наших дней, цивилизация монгольских кочевников не оставила потомкам ничего заметного. В степи можно встретить тюркских каменных баб, менгиры и керексуры, предшествующие эпохе Чингисхана, но каких-либо памятников, созданных при его правлении, так и не обнаружено.
Неизвестно ни одного каменного или бронзового изваяния Чингисхана. В Монголии известно предание о сохранившемся перстне Чингисхана со свастикой, следы которого утеряны в начале XX века.
Монголы придерживались тактики полного опустошения захваченных земель, чтобы пашни вновь стали богатой травой степью и пастбищами для скота. Города разрушались до основания, оросительные каналы засыпались песком, все местное население истреблялось, пленных, чтобы не кормить, безжалостно уничтожали. И только в конце своей жизни, в последнем походе на Тангутское государство Чингисхан стал понимать, что выгоднее сохранять города, чтобы брать с них налоги. Впрочем, одно материальное свидетельство Монгольской империи удалось найти.
Столица мира Каракорум
Никто не верил, что она существовала. Но летом 1889 года Каракорум нашла экспедиция из пяти человек, организованная Восточно-Сибирским отделом (Иркутск) Русского географического общества. Возглавлял экспедицию Николай Михайлович Ядринцев, который работал в Иркутске редактором газеты за народную трезвость "Восточное обозрение". В 1889 году у него случилось несчастье -- умерла жена, он поругался с иркутской интеллигенцией, вот и пришло ему в голову бросить все и поехать в Монголию разыскивать мифический Каракорум. Так и была открыта древняя столица Монгольской империи, которую до него никто не мог найти.
Во время раскопок была обнаружена двуязычная монголо-китайская надпись об основании этого города Чингисханом. В Каракоруме сходились все нити управления огромной Монгольской империей. К нему были проложены дороги от главнейших городов сопредельных стран. Большие строительные работы в столице Монгольской империи развернулись при втором великом хане Угэдэе, третьем сыне Чингисхана.
Каждому из его братьев, сыновей и прочей знати надлежало построить в Каракоруме по прекрасному дому. Строительство города было в основном завершено в 1236 году. Территория города в форме четырехугольника размерами примерно 4 на 4 км была обнесена невысокой крепостной стеной. У большой башни в крепости стоял красивый дворец Угэдэй-хана.
По преданию, город охраняли от наводнений 4 гранитных черепахи. В городе было 12 храмов, из них 10 буддийских и 2 мусульманских. По свидетельству знаменитых европейских путешественников, Каракорум производил незабываемое впечатление, особо отмечалось великолепие ханского дворца и серебряное дерево с чудесным фонтаном, установленное перед дворцом.
Внутри дерева были проведены четыре трубы, каждая из них сделана в виде пасти позолоченной змеи. Из одной пасти лилось вино, из другой -- очищенное молоко, из третьей -- напиток меда, из четвертой -- рисовое пиво.
В 1380 году Каракорум был до основания разрушен китайскими войсками. От былого величия до наших дней сохранилась только каменная черепаха, ее можно увидеть вблизи монастыря Эрдэнэ-Дзу. Но не найдено в Монголии значительных развалин городов, монументальных каменных памятников, большого количества художественных ценностей, монет, воинских доспехов той эпохи.
Где искусные золотые и серебряные украшения, изделия из слоновой кости и камня, часть из которых должна была бы сохраниться до наших дней, как это произошло во всех известных истории центрах великих империй и цивилизаций? Почему так мало археологических находок? Но все равно чувствуется отпечаток былой империи в истории и судьбе России...
Россия -- это Золотая Орда
Говорит декан исторического факультета Бурятского государственного университета: "Сейчас очень важно понять историю государства Российского, потому что демократические преобразования, начатые в 90-е годы, пробуксовывают. СССР был воссоздан в рамках монархии Чингисхана. То есть можно назвать эту страну и Золотой Ордой. Российское общество не живет по европейским правилам. Истоки этого надо искать во глубине веков.
Сравним эпоху Чингисхана, Петра I и Сталина. Традиции, которые были заложены в XIII веке во времена империи Чингисхана, передались по наследству Петру I, он воссоздал тоталитарное государство с очень сильной личной властью и бюрократической машиной, которая работает до сих пор по свойственным ей внутренним законам. Погибло много народа, но Россия в то время шагнула далеко вперед.
Все это можно с полной уверенностью отнести и к Сталину. Революция 17-го года -- это необходимое явление в истории империи Чингисхана. Основной задачей Советского Союза было вывести все народы, живущие на его территории, на единый социально-экономический уровень. Я думаю, Сталин выполнил эту задачу. Конечно, были погублены миллионы жизней, но он добился своего -- СССР стал сверхдержавой. Появление Сталина неслучайно, оно было востребовано обществом.
Резкий рост рейтинга Путина тоже начался после того, как он ужесточил вертикаль власти. Наше общество еще не в силах отвергнуть традицию империи XIII века. О том, что народ требует сильной руки, говорит простой факт.
За восстановление памятника Дзержинскому на Лубянской площади проголосовало 57% населения. Это ли не показатель того, что общество не готово к либеральным изменениям? Россия, несмотря на желание быть Западом, более Восток. В нас живет идея прогресса через насилие. И в этом явственно чувствуется влияние империи Чингисхана.
Это -- родина моя...
Конференция в Улан-Удэ прошла практически незамеченной для широкой публики. Может, потому что Бурятия далеко от Москвы, может, потому что сейчас публику больше интересует исламская угроза и проблема терроризма. Конечно же, конференция была чисто научной.
В ней ученые из Монголии, Турции, Японии, Казахстана, Бурятии, Москвы, Новосибирска, Читы и Владивостока делились результатами своих исследований по поводу влияния Чингисхана на судьбы народов Евразии. Вывод один -- это влияние более глубокое, чем нам кажется на первый взгляд.
Кстати, возглавляющий делегацию Монголии академик Далай (легендарная личность в востоковедении -- он проводил запретные исследования шаманизма в середине пятидесятых годов) не забыл отметить, что монголы питают к России теплые чувства уже за одно то, что благодаря СССР Монголия получила статус независимого государства и стала членом ООН.
Он же подтвердил, что в Улан-Удэ находится крупнейший научный центр востоковедения, результаты работы которого обогатили историю Монгольского государства. Но многие секреты Чингисхана остались неразгаданными. И их нужно решать общими усилиями. В 2006 году Монголия широко отметит 800-летие образования Монгольской империи. И это событие впрямую касается и России.
Профессор Танака (университет Хитоцубаши, Токио): "В Японии тоже остался след от монгольского нашествия. Например, сотни затонувших кораблей у наших брегов, остатки стены крепости, ну и, конечно, замечательные монгольские блюда -- блины и жареная баранина. Существует также предание, что Чингисхан -- это перерожденец самурая династии Каракура".
------
В последний день конференции была поездка участников на озеро Байкал. И уже там в неформальной беседе хозяева конференции -- бурятские профессора, признались, что перед тем, как решиться обсуждать эту тему, они провели шаманский обряд и спросили разрешения у духа великого Чингисхана, пришла ли пора тревожить его имя. Чингисхан разрешил. Может, поэтому даже погода благоприятствовала работе ученых.
В Бурятии в это время обычно уже стоят морозы. Но осень как будто специально задержалась, чтобы дать нам возможность рассмотреть красоту мест, где жили предки не только монголов, но практически всех народов России. И, глядя на воды Байкала, я вспомнила гипотезу учителя Клементьева и подумала, что она все-таки не лишена смысла. И, может быть, когда-нибудь удастся вернуться к тайнам Чингисхана и, кто знает, разгадать их...
Потом пели песни. Разные. После песен на монгольском и бурятском языках солист оперного театра вдруг запел: "Вижу реки и долины, вижу нивы и поля. Это -- русское приволье, это родина моя".
Я слушала его и была поражена созвучности этой старой песни духу конференции. История России -- жестокая, далекая от приглаженной легенды о покорном христианском народе-хлебопашце вдруг открывалась во всей своей сложности и величии. На этой земле жили и живут дети разных народов, с разными языками и обычаями. Но это наша общая родина, общая судьба и история.
Выражаю огромную благодарность Бурятскому государственному университету и лично ректору С.В. Колмыкову за приглашение на конференцию. В это трудное для науки время БГУ нашел возможность собрать ученых вместе, чтобы открыть новую страницу в объективном исследовании истории нашей Родины. -
Монголы
http://history.novosibdom.ru/node/28
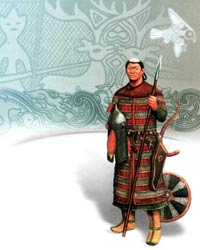 Нет, наверное, другого народа, который бы оставил столь глубокий след в истории кочевого и земледельческого населения Южной Сибири, Центральной и Средней Азии, Восточной Европы; народа, о котором так много написано и так мало, в сущности, известно. Мы имеем в виду монголов. Может быть, и не стоило бы вслед за сотнями авторов повторять уже тысячу раз пересказаные и прокомментированные тексты Плано Карпини и Гильома де Рубрука, если бы не скудость археологических источиков, порождённая страшным разорением тех территорий, где смерчем проходили монголы, и если бы не та выдающаяся роль, которую сыграли они в развитии кочевого военного дела. При беглом взгляде кажется, что они не принесли с собой ничего оригинального, что все методы военных действий и набор оружия, применявшиеся монголами, были известны степным воинствам задолго до появления этих завоевателей на исторической арене. Усовершенствовав оружие, монголы отточили эти приемы и, создав целую школу ведения войны, подняли военное искусство кочевых народов до вершинного уровня.
Нет, наверное, другого народа, который бы оставил столь глубокий след в истории кочевого и земледельческого населения Южной Сибири, Центральной и Средней Азии, Восточной Европы; народа, о котором так много написано и так мало, в сущности, известно. Мы имеем в виду монголов. Может быть, и не стоило бы вслед за сотнями авторов повторять уже тысячу раз пересказаные и прокомментированные тексты Плано Карпини и Гильома де Рубрука, если бы не скудость археологических источиков, порождённая страшным разорением тех территорий, где смерчем проходили монголы, и если бы не та выдающаяся роль, которую сыграли они в развитии кочевого военного дела. При беглом взгляде кажется, что они не принесли с собой ничего оригинального, что все методы военных действий и набор оружия, применявшиеся монголами, были известны степным воинствам задолго до появления этих завоевателей на исторической арене. Усовершенствовав оружие, монголы отточили эти приемы и, создав целую школу ведения войны, подняли военное искусство кочевых народов до вершинного уровня.Когда реальная угроза монгольского вторжения в Западную Европу миновала, у католической церкви возникла идея обратить монголов в христианство и сделать их союзниками в борьбе против ислама. Для сбора сведений и установления дипломатических отношений в Монголию по поручению римского папы в 1246 году ездил францисканский монах итальянец Плано Карпини, а в 1253—1255 годах по поручению французского короля Людовика IX — фламандец, тоже монах-францисканец, Гильом де Рубрук. Плано Карпини впоследствии написал книгу «История Монголов» (впервые изданную в переводе на русский язык в 1911 году).
Зимой 1207 года войска Джучи, старшего сына Чингисхана, пройдя по крепкому льду замёрзшего Енисея вдоль обрывистых утёсов Саянских гор, вторглись в Южную Сибирь и подчинили енисейских кыргызов, равно как и все «лесные народы» Саяно-Алтая. С этого момента начинается монгольский этап в истории Сибири. Когда Чингисхан, в 1224 году делил между сыновьями завоёванные земли, огромная территория, включавшая и юг Сибири — Тыву, Минусу, Горный Алтай, отошла в собственность улуса Джучи.
После смерти Джучи в 1227 году территории Южной Сибири стали собственностью великого хана Тулуя. На юге улус Джучи граничил с Джагатайским улусом в Хорезме. В результате походов хана Батыя, сына Джучи, границы владений значительно продвинулись на запад. В XIII веке улус отделился от Монгольского государства, явившись тем ядром, из которого выросла Золотая Орда.
Любопытно, что следы монголов археологами найдены на этих территориях пока не везде. Например, их нет в с западно-сибирской лесостепи и к северу от нее. Но, конечно, и этот край не оставался в стороне от бурных событий тех лет. Грозное эхо кровавых столкновений, происходивших южнее, докатилось до самых глухих таёжных закоулков, куда в страхе перед завоевателями хлынули массы кочевого тюркоязычного населения.
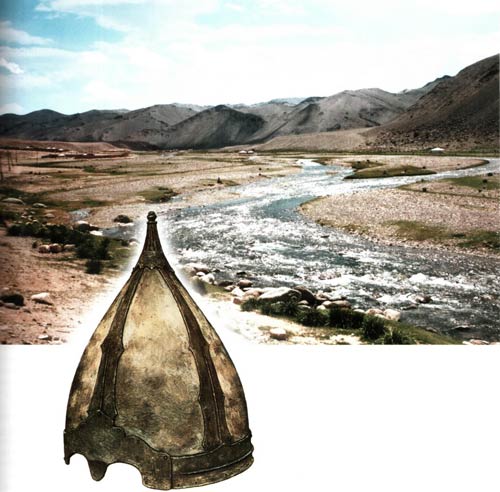
Рис. 1. Монголия — страна гор и высоких равнин. Большая часть монгольских рек, являясь верховьями великих рек Сибири и Дальнего Востока, направляет свои воды к Северному Ледовитому и Тихому океанам. Западная Монголия. Сомон Мунх-Хайерхан.
Рис. 2. Монголо-татарские шлемы («дулга»), продолжая традиции характерных для Центральной и Восточной Азии типов боевых наголовий, были весьма разнообразны по форме (от почти полушаровидной до сильно вытянутой сфероконической).
XII - XIV вв. Горный Алтай. БКМ.

Рис. 3. Конструкция удил с плоскими круглыми кольцами и уздечки с ремнями, украшенными плоскими железными накладками. XII—XIII вв. Реконструкция по материалам памятников эпохи развитого средневековья и этнографическим данным Западной Сибири и Саяно-Алтая.
Рис. 4. Жёсткий деревянный каркас и железная оковка верхнего края передней луки седла монгольской эпохи. Реконструкция по материалам средневекового могильника Сопка-2, западно-сибирская лесостепь, раскопки В. И. Молодина. XII—XIV вв., Красноярский край.
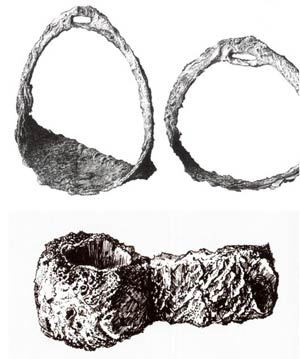
Рис. 5. Стремена. В первой четверти 2-го тыс. н. э. они широко распространяются среди кочевого населения Евразии. Вторая четверть 2-го тыс. н. э. Могильник Сопка-2, Новосибирская область. Раскопки В. И. Молодина. МА ИАЭТ СО РАН.
Рис. 6, а, б. Крючки на рукояти плетки-камчи предназначены для того, чтобы она не выскальзывала из рук. Надетые на тыльный конец деревянной рукояти плётки, они превращали её в комбинированное оружие. Крючки делались из железа (а) и рога (б). XIII—XIV вв. Могильник Сопка-2, Новосибирская область. Раскопки В. И. Молодина.
Рис. 7. Этот роговой держатель, в котором крепилась волосяная кисть, подвешивался под мордой лошади и служил знаком доблести, воинских заслуг и общественного положения хозяина. XIII—XIV вв. Могильник Сопка-2, Новосибирская область. Раскопки В. И. Молодина. МА ИАЭТ СО РАН.
Рис. 9. Массивные ромбические проникатели способны были нанести серьёзное ранение. Узкие массивные наконечники проникали сквозь плетение кольчуги, а на ближней дистанции, с силой выпущенные из монгольского лука, способны были пробить и другие типы панцирей. Эпоха развитого средневековья. Могильник Усть-Анга. Прибайкалье. Раскопки И. В. Асеева.
Рис. 8. По сообщению Плано Карпини: «Железные наконечники стрел весьма остры и режут с обеих сторон наподобие обоюдоострого меча», а те из них, что использовались «...для стреляния птиц, зверей и безоружных людей, в три пальца ширины». Все наконечники — плоские в сечении. Их перо в большинстве своём асимметрично-ромбической формы с наибольшим расширением в верхней трети. Многие имеют прямую, тупоугольную или выпуклую полукруглую поражающую часть. За характерный абрис их называют срезни. Несколько реже встречаются наконечники, откованные в форме широкой развилки с остро отточенной внутренней вогнутой частью, — двурогие, или развильчатые, срезни. На охоте развильчатые срезни применялись для стрельбы по птице, а в бою, по некоторым сообщениям, ими метились в тетивы вражеских луков. Вообще же, все массивные наконечники предназначались для поражения лошадей и не защищенного доспехами противника. Они были устроены так, что даже при касательном попадании меняли направление движения, вонзаясь в тело. При этом травма наносилась чрезвычайно серьёзная. Многие крупные монгольские наконечники имели зигзагообразное или, как его иногда называют, «молниеобразное», сечение. Плоскости их пера как бы смещены относительно друг друга по оси симметрии, и одна половинка пера чуть-чуть выступает над другой. Высказывалось мнение, правда, ничем не подтвержденное, что такие наконечники вращались в полёте. Москва. ГИМ.Триумф монгольского оружия заставил народы, на себе испытавшие его силу, относиться к нему, как к образу для подражания. Именно это оружие во многом определяет облик описываемой эпохи.
Монгольское войско не было мононациональным. Оно формировалось из представителей многочисленных монголо-язычных, а позже и тюркоязычных, ираноязычных (аланы) кочевых племен, спаянных жёсткой дисциплиной, единой административной системой и общностью целей. Поэтому понятие «монгольский» здесь и далее несет в большей мере собирательный, нежели этнический смысл.
Изменения в военной технике коснулись и устройства упряжи верхового коня. Вместо сложной в изготовлении системы управления лошадью с помощью удил с псалиями, повсеместно распространилась надежная и технологически простая конструкция с большими внешними кольцами — трензелями. Они свободно закреплялись на концах удил, а к ним уже приклепывались ремни оголовья и подвязывался повод. Удила и уздечки, таким образом, приобрели современный вид в монгольское время.
Заметно модифицировались, сравнительно с общепринятыми тюркскими, и жесткие деревянные каркасы седел. Теперь луки седел делались из массивных досок, необходимых для того, чтобы получилось более широкое основание. Такое устройство лук позволило сблизить между собой доски полок и уложить их на спину лошади, а главное — уменьшить давление всадника и его снаряжения на ребра животного. Это одна из причин стремительности монгольских атак.
Псалии — вертикальные стержни, прикреплявшиеся перпендикулярно к концам удил. Псалии, известные с эпохи раннего железа, удерживали удила во рту лошади, не давая им смещаться вбок. При натягивании поводьев они сдавливали губы лошади, причиняя ей боль и тем самым заставляя подчиняться седоку.
Монгольское метательное оружие было почти идеальным. В это время появились луки с фронтальной роговой накладкой, по форме напоминающей широкое уплощенное весло байдарки. Подобные детали так и называют — «весловидными». Распространение этих луков в эпоху средневековья многие археологи напрямую связывают с монголами, нередко даже именуя их «монгольскими». У нового оружия по-иному работала кибить. Весловидная накладка, увеличивая сопротивление центральной части оружия на излом, в то же время не снижала ее относительной гибкости. Накладка часто врезалась в рукоять лука, что обеспечивало лучшее сцепление деталей и более высокую прочность самого оружия.
Кибить лука (ее длина у готового изделия достигала 150—160 см) собиралась из разных древесных пород. Изнутри она дополнительно усиливалась пластинами, вырезанными из отваренных до мягкого состояния полых рогов парнокопытных — козла, тура, быка. С внешней стороны лука, вдоль всей его длины, на деревянную основу приклеивались сухожилия, взятые со спины оленя, лося или быка, которые наподобие резины имели способность при приложении силы растягиваться, а потом вновь сокращаться. Процесс наклейки сухожилий имел особое значение, ибо от него в немалой степени зависели боевые возможности лука. У бурятских мастеров, луки которых более всего напоминают древнемонгольские, он занимал от нескольких дней до недели, так как каждый последующий слой наносился только после полного высыхания предыдущего. Работа завершалась, когда толщина сухожильного слоя достигала полутора сантиметров. Готовый лук после этого оклеивался берестой, стягивался в кольцо и сушился — сушка продолжалась не менее года. Вообще, для изготовления такого оружия, включая предварительную сушку заготовок для кибити, требовалось не менее двух лет. Учитывая высокую трудоёмкость этого «производства», понятно, почему воины относились к своему оружию столь трепетно.
Тем не менее луки оставались довольно хрупкими и часто ломались. Монгольским воинам приходилось брать с собой, согласно свидетельству Плано Карпини, «два или три лука, или, по меньшей мере, один хороший». Наверное, запасались они и дополнительными тетивами. Дело в том, что материалы, из которых они делались, по-разному вели себя в различных климатических условиях. Так, тетива из скрученных бараньих кишок, прекрасно служившая в тёплый летний день, не выносила осенней слякоти и растягивалась, а вытянутая из сырой конской шкуры — сохраняла свою упругость во время мороза. То есть набор таких «запчастей» был необходим не только для замены пришедшей в негодность детали, но и для успешной стрельбы в любую погоду и в любое время года.
А.И. Соловьёв
-
-
-
Неолит Южной Маньчжурии
кандидат исторических наук Алкин, Сергей Владимирович
Год:
2002
Автор научной работы:
Алкин, Сергей Владимирович
Ученая cтепень:
кандидат исторических наук
Место защиты диссертации:
Новосибирск
Код cпециальности ВАК:
07.00.06
Специальность:
Археология
Количество cтраниц:
303
Оглавление диссертации кандидат исторических наук Алкин, Сергей Владимирович
Введение
Глава I. очерк физико-географических и климатических условий региона
§ 1. Физико-географические условия и современный климат
§2. Сведения о палеоклиматических изменениях в голоцене
Глава П. история изучения неожта южной Маньчжурии
§ 1. Этапы формирования источниковой базы изучения южноманьчжурского неолита
§2. Изучение проблематики неолита юга Маньчжурии российскими археологами
Глава Ш. неолитические комплексы южной Маньчжурии
§ 1 Неолит континентальной части
§2. Неолит Ляодунского полуострова
Глава IV. опыт реконструкции некоторых элементов духовной культуры
§ 1. Поселенческие и погребально-культовые памятники неолитических культур Юга Маньчжурии как источник для изучения духовной культуры
§2. Семантический анализ нефритовой скульптуры культуры хуншань
Глава V. общие тенденции развития неолита южной маньчжурии
§ 1. Проблема происхождения керамики
§2. Проблема раннего земледелия
§3. Проблема южно-маньчжурской неолитической общности
Введение диссертации (часть автореферата) На тему "Неолит Южной Маньчжурии"
Последние десятилетия отмечены активизацией исследований в области неолитоведения российского Дальнего Востока. Внимание специалистов привлечено к углублённому рассмотрению вопросов переходного периода от верхнего палеолита к неолиту, проблем общего хода процесса неолитизации, к расширению источниковой базы изучения выделенных ранее и открытие новых неолитических культур Приамурья и Приморья. Складывающаяся новая ситуация логично привела к усилению интереса российских археологов к информации из сопредельных территорий. В том числе из Северо-Восточного Китая. В немалой степени это связано и с тем, что неолитические культуры этого региона Восточной Азии характеризуются высоким уровнем развития технологий, быстрыми темпами становления производящего хозяйства и удивительными феноменами в области духовной культуры. Анализ результатов исследований китайских археологов даёт ясные свидетельства того, что в уже ранненеолитическое время в Южной Маньчжурии сформировался оригинальный культурный центр, который в ходе дальнейшего исторического развития культуры региона не только смог сохранить свою самобытность, но и оказал существенное, во многом определяющее воздействие на развитие неолитических и более поздних культур - как в пределах внутренних китайских территорий, так и в северной части Маньчжурии вплоть до берегов Амура. Очевидно, что этому способствовал целый ряд факторов как естественно-географического, так и культурного плана.
Южная Маньчжурия является одним из наиболее археологически изученных регионов Китая. В равной степени этот тезис может быть отнесён к исследованиям в области неолита. К настоящему времени там открыты сотни памятников различных типов: поселенческие, погребальные и культовые. Их материалы не только достаточно полно характеризуют общее направление развития культур в этой части Востока Азии на протяжении значительной части эпохи голоцена, но также иллюстрируют локальные их особенности, которые особо ярко проявляются на фоне эколого-географического районирования внутри этого обширного региона. Китайскими археологами к настоящему времени выделен ряд археологических культур, сделаны важные обобщения в плане определения их хронологии, географии и внутреннего содержания. Объём опубликованных материалов по неолиту Северо-Восточного Китая огромен. Однако в своих исследованиях китайские коллеги ограничиваются в основном рамками археологического описания и общекультурной характеристики отдельных местонахождений и культур. Что же касается необходимого обобщения полученных материалов на более высоком таксономическом уровне и с привлечением широкого фона генезиса и развития неолита этой части Азиатского материка, то такая работа в китайской историографии носит в основном предварительный характер. В тоже время, проблемы зарождения неолитического хозяйства, генезиса и развития неолитических культур в современной археологии являются одними из наиболее приоритетных и дискуссионных. В том числе, это касается регионов Восточной Сибири и Дальнего Востока России, непосредственно граничащих с территориями Северо-Восточного Китая, органичной частью которого является юг Маньчжурии.
Приоритет в осознании необходимости активного включения неолитических материалов из Маньчжурии в общий процесс археологического познания древнейших этапов исторического развития сибирских и дальневосточных регионов Северо-Восточной Азии принадлежит российским исследователям первой половины XX в., которые жили и работали в Маньчжурии. Большой вклад в расширение источниковой базы этих исследований внесли также японские археологи. С началом активной работы советских археологов в Приамурье и Приморье связано обращение к изучению в нашей стране проблем археологии (в том числе и неолита), сопредельных провинций Китая в нашей стране. Однако ряд объективных причин оказывал негативное воздействие (а некоторые до сих пор продолжают играть ту же роль) на степень овладения археологической ситуацией в ключевом для решения многих общих и частных проблем неолитоведения Востока Азии маньчжурском регионе.
Таким образом, актуальность предлагаемого исследования определяется необходимостью скорейшего включения в научный оборот неолитических материалов с территории Южной Маньчжурии, что позволит российским специалистам полноценно использовать их в своей работе. Кроме того, большой фактический материал, за последние несколько десятилетий накопленный археологами КНР, предоставляет нам возможность произвести анализ общих тенденций и специфики культурных традиций неолита Южной Маньчжурии с корреляцией их на общем фоне неолитических культур всего Северо-Восточного Китая и сопредельных территорий. Как результат -определить их место и возможную роль в историческом процессе на территории Восточной Азии.
Что касается разработанности предлагаемой к рассмотрению темы в российской историографии, то следует признать, что за исключением относительно новых (по материалам работ китайских исследователей семидесятых-восьмидесятых годов), но зачастую неточно и выборочно изложенных сведений об отдельных неолитических памятниках СевероВосточного Китая [Д.Л. Бродянский, 1987; М.В.Воробьёв, 1994] наши представления о предмете исследований остаются во многом на уровне 60-х -начала 70-х годов. Они в свою очередь были сформированы благодаря исследованиям В.Е.Ларичева, [1959 а,б, 1960 а,б,ё\, А.П.Окладникова и A.n. Деревянко [Окладников, 1959; Окладников, Деревянко, 1973; Деревянко 1973], которые базировали свои обобщающие работы и анализ в основном на результатах исследований японских и западноевропейских исследователей начала прошлого столетия, российских археологов и краеведов второй трети XX столетия и работ китайских археологов пятидесятых и шестидесятых годов. В публикациях сибирских археологов, таким образом, были заложены основы неизменного интереса специалистов к маньчжурскому неолиту, который воспринимается как органичная часть крупного неолитического региона на Востоке Азии. Существует ясное понимание того, что неолит Северо-Востока Китая неоднороден и может быть разделён на две зоны, связанные географически с северными и южными районами Маньчжурии. Хотя следует признать, что первоначальные выводы о роли культур маньчжурского региона и их соотношении с культурами сопредельных территорий Приамурья и Приморья делались на очень ограниченном фактическом материале, можно сказать, на практически интуитивном уровне. Нельзя обойти стороной и тот факт, что из-за многолетнего существования критически сложного положения в межгосударственных отношениях между СССР и КНР научный обмен был свернут, что привело к проявлениям, как внешней цензуры, так и самоцензуры в работах и советских и китайских авторов, когда они обращались к темам маньчжурского неолита и его контактов с сопредельными территориями.
Основные цели настоящего исследования определяются следующим образом:
- обобщить материалы и дать технико-типологическую характеристику неолитических культур, выделенных китайскими исследователями на территории Южной Маньчжурии;
- систематизировать и классифицировать полученный материал на основе современных методик обработки археологических данных, дать их описание с помощью принятых в российской археологии терминов и подходов для решения вопросов развития и периодизации неолитических культур и традиций в пределах региона Южной Маньчжурии и на фоне дальневосточных материалов в целом.
Задачи исследования, которые необходимо решить для достижения поставленных целей представляются следующими:
- оценка ландшафтно-климатической обстановки на рассматриваемой территории в голоцене;
- критический анализ китайской археологической литературы с точки зрения современных методик и терминологии археологического исследования, принятых в нашей стране;
- по возможности всесторонний анализ всего комплекса инвентаря с учётом особенностей сырьевой базы, техник первичного расщепления и вторичной обработки камня, технологии керамического производства, с выделением культурозначимой информации;
- исследование жилищных и бытовых комплексов;
- исследование культовых комплектов с реконструкцией элементов духовной культуры;
- систематизация рассматриваемых материалов по хронологическим этапам;
- определение специфики культурно-хозяйственных типов на фоне локальных природно-географических особенностей;
- корреляция материалов неолитических культур Южной Маньчжурии с культурами соседних территорий;
- определение места неолитических традиций Южной Маньчжурии в общих и региональных археологических классификационных схемах.
Таким образом, объектом исследования в диссертационном сочинении является процесс неолитизации на территории Южной Маньчжурии. Предметом исследования являются археологические культуры, бытовавшие на конкретной территории в определённый исторический промежуток времени.
Хронологические рамки определены от времени появления в регионе памятников раннего неолита до начала перехода к эпохе ранней бронзы.
Нижняя граница - около 10-11 тысяч лет назад. Верхняя граница соответствует концу третьего тысячелетия до нашей эры.
Территориальные рамки исследования в основном ограничиваются пределами южной части Маньчжурии. Известно, что Северо-Восток Китая распадается на два больших субрегиона, что определяется естественно-геофафическими факторами. В нашей работе территориально будет охвачен район Северо-Восточного Китая южнее невысокой гряды водораздела между бассейнами рек Ляохэ и Сунгари. Ядром его является Южно-Маньчжурская равнина, орошаемая р. Ляохэ и ее многочисленными притоками. С запада к ней прилегают нагорья Жэхэ (горы Яньшань), с востока - Ляодунский полуостров. Логика исследования потребовала также включить в ареал изучения неолитические памятники на сопредельной территории Северо-Китайской равнины. В административном плане охвачены территории провинций Ляонин (полностью) и Хэбэй (северная часть), а также юго-восточная часть автономного района Внутренняя Монголия.
В связи с этим необходимо сделать несколько замечаний географо-терминологического плана. Северо-Восточный Китай, который в Китае именуется как Дунбэй (дословно - Северо-Восток), в России имеет традиционное название - Маньчжурия. По причинам исторического характера оно в современной китайской географической номенклатуре не употребляется и целиком относится к словарю зарубежного китаеведения. Наименование Маньчжурия несёт вполне определённое физико-географическое и биогеографическое содержание, широко употребляется в мировой
1 U U U 1—1 географической, ботанической и зоологической номенклатуре. Его использование историками и археологами давно вышло за пределы изучения исторического периода, когда эта территория Северо-Восточного Китая была ареной борьбы племён маньчжуров за гегемонию в Китае, а затем доменом правителей династии Цин. Автор настоящего исследования считает термин
Маньчжурия наиболее подходящим для определения территориальных рамок свой работы.
Дело в том, что в геофафическом смысле название Маньчжурия может быть применено для обозначения гораздо большей территории, чем это понимается под термином Дунбэй в административно-территориальном делении современного Китая. Северо-Восточный Китай по официально принятому районированию включает три провинции. Значительная же часть территории, которая исторически входит в зону действия неолитических культур региона административно принадлежит автономному району Внутренняя Монголия. Но эти же районы (включая Большой Хинган, горы и нагорья Жэхэ и даже прилегающие к Хингану степи и полупустыни Монголии) традиционно считались частью Маньчжурии [Мурзаев, 1955, с.5]. Именно это позволяет нам использовать слово Маньчжурия для обозначения региона, археологические памятники эпохи неолита которого являются предметом настоящего исследования.
Следует, тем не менее, заметить, что проблема в определении геофафических рамок региона в литературе существует. Прежде всего, это касается содержания терминов Маньчжурия и Дунбэя в историко-культурном
Т Г U и . аспекте. У китайских исследователей на этот счёт существуют различные точки зрения. Нередко общая типология отдельных категорий находок выстраивается на материалах всего Дунбэя без учёта внутреннего членения региона [см.: Цзя Вэймин, 1985]. В широком историческом смысле к региону Северо-Восточного Китая относят не только провинции Хэйлунцзян, Цзилинь и Ляонин, но и северо-восточную и северо-западную части автономного района Внутренняя Монголия [Чжан Бибо, 1989, с.З]. В первом случае имеется в виду район Баргинских степей на фанице с Восточным Забайкальем, а во втором ту часть Внутренней Монголии, которая лежит к западу от хребта Большой Хинган вплоть до Монгольского нагорья. Для поздних эпох это может быть принято. Рассмотрение же археологии каменного века, прежде всего неолита, показывает. что районы на запад от Большого Хингана принадлежали иному культурному ареалу, более связанному с Северным Китаем и Восточной Монголией, нежели с территориями по восточную сторону хребта.
Источниковая база исследования формируется на опубликованных китайскими археологами сообш;ения о раскопках, обобш;аюш;их статьях и монографических исследованиях. Принятая в современной китайской археологической науке подробная публикация докладов о раскопках, которые близки по формальным характеристикам полевым отчетам, подробное описание и всесторонний анализ инвентаря, наличие антропологических определений* в целом составляет достаточно полную публикацию данных. Всё это делает материалы раскопок китайских археологов более доступными и открытыми для других исследователей. Кроме этого необходимо указать еще на один тип источников оперативной информации. Национальная и местная китайская пресса неизменно на первых страницах помещает информацию о наиболее существенных археологических открытиях, в том числе на территории Северо-Востока. В качестве примеров можно привести публикации о раскопках поселения Хоува в Ляонине [Гуанминь жибао, 1987.05.18], об открытии типичного поселения культуры пянъбу Бэйгоу [Жэньминь жибао, 1988.02.15] и многие другие. Значительное внимание материалам из Маньчжурии уделяется в общенациональной еженедельной газете «Чжунго вэньу бао», которая освещает самые последние события в археологии и науках о древней истории Китая. Естественно, что в нашем исследовании мы опираемся главным образом на публикации в специализированной периодике. Однако в некоторых случаях, когда как, например, в ней пока отсутствует информация об открытии древнейшей керамики региона в северном Хэбэе, то качественные публикации в средствах массовой информации позволяют расширить наши знания ещё до того, как подробные отчёты будут опубликованы. Отметим сразу, что опубликованной информации по антропологическим коллекциям с неолитических могильников Южной Маньчжурии нам неизвестно.
При работе над диссертацией использовались только лично выполненные автором переводы работ китайских исследователей*. Таким образом, вся ответственность за возможные неточности полностью лежит на нём. В описании археологического материала автор в степени, в которой это было необходимо и возможно, дает собственную интерпретацию типологии, функциональных характеристик артефактов, своё видение стратиграфической ситуации и т.д., что в тексте не оговаривается, за исключением отдельных случаев, носящих наиболее дискуссионный характер.
Сотрудничество с китайскими коллегами дало автору возможность непосредственно познакомится методами полевых исследований в современной китайской археологии. В июле - августе 1991 г. при активном содействии профессора Линь Юня (бывшего тогда деканом археологического факультета Цзилиньского университета) и по приглашению научного сотрудника Института археологии и материальной культуры автономного района Внутренняя Монголия Го Чжичжуна автор принимал участие в третьем сезоне раскопок многослойного (комплексы неолитических культур синлунва, чжаобаогоу и хуншанъ) поселения Байиньчанган [Го Чжичжун, 1994]. Кроме общего знакомства с методикой работ на памятнике автор участвовал в раскопках жилища культуры синлунва. Из других археологических памятников материалы, которых использованы в настоящей работе следует упомянуть посещение музеефицированного поселения Синьлэ в г. Шэньян.
Кроме того, во время нескольких поездок в Китай у автора была возможность осмотреть отдельные коллекции в Институтах археологии и материальной культуры провинций Хэйлунцзян, Ляонин и Цзилинь, в Институте археологии АОН КНР (г. Пекин), а также экспозиций и хранилищ специализированных и краеведческих музеев в городах Пекин, Тяньцзинь, Чанчунь, Шэньян, Чифэн и Харбин. Для анализа полученной информации привлекались публикации российских авторов по широкому кругу проблем Особую признательность автор выражает своим преподавателям по китайскому языку: Валентине Алексеевне Ленинцевой (г. Чита) и Ольге Павловне Фроловой (г. Новосибирск) теоретического и практического неолитоведения. Важную роль играл обмен мнениями с коллегами в ИАЭТ СО РАН, научных центрах Восточной Сибири и Дальнего Востока и работа с материалами коллекций неолитических памятников, исследованных в разное время на юге Дальнего Востока сотрудниками ИАЭТ СО РАН, ИИАЭ ДВО РАН, ДВГУ, БГПУ и ХКМ. Автор принимал участие в изучении неолитических памятников на территориях пограничных Северо-Восточному Китаю - на Нижнем и Среднем Амуре и в Южном Приморье. По возможности привлекались данные естественных наук. Данные по систематики флоры и фауны во всех возможных случаях выверялись по специальным словарям и в случае, если в оригинальных публикациях они отсутствовали, дополнялись без специального уведомления
Основой для методической системы обработки опубликованных китайскими авторами материалов послужили базовые приёмы и способы, применяемые в полевых и лабораторных условиях археологами ИАЭТ СО РАН. Использованы метод археологического описания, сравнительно-исторический, сравнительно-типологический и картографический методы.
В своём исследовании мы исходим из того общего понимания археологической культуры, что она является упорядоченной совокупностью взаимосвязанных типов явлений материального мир, которая дана нам в археологических остатках [Клейн, 1991, с.391]. На первоначальном этапе описания и группировки археологического материала понятие «археологическая культура» выступает, прежде всего, как служебный инструмент исследования. Лишь после систематизации полученной археологической информации исследователь имеет возможность приступить к решению проблемы, какая прошлая реальность была отражена в этом понятии на конкретном примере археологической культуры.
Наша задача в значительной степень облегчается тем, что понятие «археологическая культура» (или «археологический тип») является определяющим операционным инструментом и в китайской археологической науке тоже. Общая картина неолита Дунбэя в исследованиях китайских археологов имеет дискретно-мозаичный вид. Анализ сложившейся ситуации может стать более продуктивным, если будет применён интегрирующий подход, который всё более развивается в современной российской археологии [Корякова, 1998, с.80]. Интегрирующий подход подразумевает использование классификационных категорий более высокого таксономического уровня, таких как «археологические общности», «историко-культурные общности», «культурно-хронологический горизонт» и т.п. На наш взгляд, интегрирующий подход позволяет наиболее полно выявить содержание всего комплекса контактов между археологическими культурами, а как следствие приблизиться к пониманию облика прошлой реальности, что, в конечном счете, является целью любого археологического исследования.
Научная новизна исследования заключается в том, что автор рассматривает все археологические культуры Южной Маньчжурии, анализируя их на фоне одновременных материалов с сопредельных территорий. До сих пор полной сводки источников по неолиту Южной Маньчжурии нет и в китайской археологической литературе. В работе сделана попытка преодолеть трудности в восприятии археологических материалов, опубликованных китайскими авторами, наличие которых связано как с особенностями прочтения китайского специализированного текста, так и с различиями в сумме методик археологического исследования.
Определённую сложность представляет работа с китайской археологической терминологией. Фактически часто речь идёт об элементарном отсутствии общепринятой терминологии. Примеров таких можно приводить множество. Так при описании крупных каменных орудий широко используется термин «чоппер» для определения рубящих орудиях. Вслед за этим как отдельные типы могут быть описаны шлифованные топоры и тесла. Есть проблемы иного рода. Например, большинство китайских археологов, вероятно, не понимает разницы между различными приемами обработки поверхности керамических сосудов - «тщательным выглаживанием» и лощением, то они обычно используют для описания один термин. На практике же было выяснено, что он относится к определению обоих из указанных приемов. Часть проблем в восприятии материала была снята благодаря наличию фото и графических иллюстраций, подробным описаниям артефактов и личному знакомству с реальными находками.
Существует проблема в идентификации сырья для изготовления каменных орудий, которое обычно определяют как юй, что можно перевести словом нефрит. На самом деле под общим названием юйци (нефритовые изделия) часто скрываются артефакты из различных пород поделочных камней, не обязательно из нефрита. Проблема определения минералов, которые относят обобщенно к группе нефритов, сложна. В китайской археологии лишь в редчайших случаях к анализу привлекаются специалисты, которые могут дать точное определение использованного сырья. В последнее время, правда, эта ситуация постепенно выправляется. Проводится работа по определению пород минералов, что даёт возможность вести поиск конкретных источников сырья [см.: Цюй Ши, 1987]. При составлении иллюстративных таблиц приложения к диссертации во многих случаях приходилось вносить исправления в изображения, особенно это касается манеры подачи каменного инвентаря.
Практическая значимость настоящего исследования заключается в том, что оно даёт общую картину развития обширного региона на Востоке Азии в переломную неолитическую эпоху, уточняет сведения о происхождении производящего хозяйства, динамике неолитизации в отдельно взятом археологическом районе.
Предлагаемые в диссертации материалы и выводы могут быть использованы для написания соответствующих разделов в учебных пособиях, в работе со студентами, а также при создании сводов археологических источников и написании обобщающих работ. На основе полученных данных автором читается специальный курс для студентов гуманитарного факультета НГУ.
Основные положения диссертации нашли отражение в одной монографии и в более двух десятков научных публикаций. Отдельные материалы и связанные с ними проблемы выносились на обсуждение коллег на заседаниях Сектора истории и археологии стран зарубежного Востока и Учёного Совета ИАЭТ СО РАН, а также прошли апробацию на годичных сессиях ИАЭТ СО РАН, ИИАЭ ДВО РАН, а также на региональных, общероссийских и международных совещаниях и конференциях в России, Китае, Японии и Корее.
Автор искренне благодарен своему научному руководителю д.и.н. В.Е.Ларичеву, всем сибирским и дальневосточным коллегам, а также китайским специалистам из археологических центров в Пекине, Шэньяне, Чанчуне, Харбине и Хух-Хото за поддержку и помощь в изучении проблем, которым посвящена настоящая диссертационная работа.
Структура работы.
Диссертация состоит введения, пяти глав и заключения, библиографического списка использованной литературы и приложения в виде иллюстративного материала.
Заключение диссертации по теме "Археология", Алкин, Сергей Владимирович
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Северо-Восточный Китай всегда был интересен исследователям тем, что находится на стыке резко отличных друг от друга культурно
Си и т/« и с» одной стороны - земледельческий Китай, с другой - мир таёжных охотников и рыболовов Сибири и Дальнего Востока, с третьей - обп1ирная степная зона Монголии, Восточного Туркестана и Южной Сибири со скотоводческим хозяйственным укладом. Между этими крупными областями с древности существовали различные связи. Дунбэй в них выступал тем контактным районом, неолитические памятники которого могут помочь прояснить картину этих отношений на древнейшем этапе их развития. Не меньший интерес для исследователя имеет возможность выявления оригинальных, специфических черт культур Северо-Восточного Китая, определяющих собственное лицо этого региона в неолитическое время и определяющих особенности его развития на протяжении последующих веков. Поэтому автор ставил своей целью дать по возможности полное представление о культурах неолита отдельно взятой части Северо-Восточного Китая
В результате проведённого обобщения и анализа материалов неолита Южной Маньчжурии автор пришёл к выводу, что неолитические культуры Южной Маньчжурии характеризуются высоким уровнем развития технологий, быстрыми темпами становления производящего хозяйства и удивительными феноменами в области духовной культуры. Очевидно, что уже в ранненеолитическое время в этом регионе Северо-Восточного Китая сформировался оригинальный центр, представленный южно-маньчжурской общностью археологических культур. При этом автор осознаёт, что полученные результаты и выдвинутые гипотезы во многом требуют конкретизации и уточнения.
На представленных материалах в частности не прослеживается механизм генезиса неолита на местной (или иной) верхнепалеолитической основе. Прежде всего, это связано с недостаточностью материалов по эпохе верхнего палеолита в целом Северо-Восточного Китая и Южной Маньчжурии в частности.
Тем не менее, рассмотренные материалы фиксируют достаточно раннее и с большой вероятностью автохтонное содержание процессов неолитизации, выразившихся в хронологически раннем (сопоставимом по времени с аналогичными процессами на сопредельных территориях) обретении технологии керамического производства и переходе к производящему хозяйству, прежде всего в его раннеземледельческом зерновом варианте. В пределах самой южно-маньчжурской общности выявлено два региона с определённой спецификой развития, которая маркируется, прежде всего, различиями в каменной индустрии.
За рамками исследования остался целый ряд важных проблем, среди которых проблема культурной трансформации в контактных зонах. Неолит Южной Маньчжурии демонстрирует - как минимум - три варианта развития в контактных зонах: 1) юго-западная часть региона, где происходило взаимодействие с культурами крашеной керамики Северного Китая; 2) зона контакта по линии водораздела Ляохэ и Сунгари, где южноманьчжурская неолитическая общность контактировала с культурами Северной Маньчжурии; 3) прибрежные территории южной части Ляодунского полуострова, население которых через Бохайский залив имело тесные связи с культурами Шаньдунского полуострова. Специальное обращение к этой проблеме предполагает проведение в будущем анализа содержательного аспекта понятия «контактная зона» на примере конкретного археологического региона, что может оказаться полезным как в общетеоретическом плане, так и для более глубокого понимания развития южно-маньчжурской неолитической общности.
Южно-маньчжурская общность не только сохранила свою самобытность на протяжении всего неолитического периода, но и оказала во существенное воздействие на развитие неолитических и последующих культур как в Северном Китае, так и в сопредельных районах Северной Маньчжурии, Приамурья и Приморья. Этот вывод мы считаем особенно важным, поскольку районы Северо-Восточного Китая на протяжении всей истории этногенеза были одним из узловых его центров на территории Восточной Азии. Теперь можно ставить вопрос о довольно раннем времени формирования этого центра.http://www.dissercat.com/content/neolit-yuzhnoi-manchzhurii#ixzz3Bs8lUWCq
-
http://arh.mybb.ru/viewtopic.php?id=22
Неолит Дальнего Востока
Центральное место в изучении истории того или иного региона занимает проблема
его первоначального заселения человеком. В результате активных археологических
исследований в бассейне Амура в 60-70-х годах XX века выдвинуто предположение о
возможности появления на этой территории человека еще в нижнем палеолите.
Палеолит в Приамурье. Древнейшие в Приамурье археологические
местонахождения человека обнаружены в долине реки Зеи – у села Филимошки, около
поселка Усть-Ту, а также у села Кумары в бассейне верхнего Амура. Найденные древние
изделия представляют архаичную галечную технику обработки камня и отличаются
грубостью и примитивностью форм.
Орудия изготовлены из массивных, преимущественно кварцитовых, галек путем
раскалывания и оббивки. Наиболее широко представлены орудия, связанные в основном с
рубящими функциями, а так же скребла. Аналогичные памятники с древней галечной
техникой обработки камня выявлены на соседних с бассейном Амура территориях - в
Южной Сибири, на Алтае, а также в Китае, на юге Корейского полуострова, в Монголии.
Процесс обживания огромных территорий Восточной, Центральной и Северной Азии был
очень длительным. Первые люди, появившиеся здесь, с увеличением численности и
плотности населения, расселялись на новые территории. Поскольку основу существования
палеолитического человека составляла охота на диких животных, мигрировавших нередко
на значительные расстояния, становится вполне очевидной возможность появления
человека на юге Дальнего Востока. Предположения о раннем появлении человека в этой
зоне учитывает и специфику физико-географических условий того периода: отсутствие
резких климатических колебаний, не слишком суровый и относительно устойчивый
климат, что создавало вполне благоприятную обстановку для расселения первобытных
людей.
В эпоху верхнего палеолита наряду с примитивными галечными орудиями
появляются изделия, выполненные в новой технике обработки – расщепление камня,
обработка орудий с двух сторон ретушью и т.п. Новая техника обработки камня означала
крупный сдвиг в эволюции приемов камнеобработки и явилась отражением
прогрессивных изменений во всей культуре первобытного человека.
Каменный век на северо-востоке Азии, Сахалине и Камчатке. В районах
Северо-Восточной Азии первые следы обитания людей выявлены на Камчатке, Чукотке, в
бассейне Колымы.
Судя по характеру материальных остатков на стоянках северо-восточной части
Дальнего Востока, первобытные люди занимались преимущественно охотой,
рыболовством и собирательством. В целом уровень хозяйства и техники здесь был не
ниже, чем в европейском палеолите.
В последние десятилетия серия ранних археологических памятников была открыта
на Сахалине и Курильских островах.
При сравнительном изучении материалов сахалинских и курильских памятников
устанавливается их достаточно близкое сходство со стоянками Приморья и северо-
восточной части Хоккайдо. В целом ранние комплексы Сахалина и Курильских островов
являются звеньями единой цепи древних культур в тихоокеанской зоне. Выделенные
аналогии в материалах позволяют говорить о материковых истоках этих культур и
длительных контактах первых обитателей островной гряды, которые прошли по
сухопутным мостам, связывавшим Сахалин с материком.
Неолит в бассейне Амура. В эпоху неолита Приамурье являлось регионом, где
происходили сложные исторические процессы, формировались и развивались самобытные
культурные общности. В это время произошли коренные изменения в хозяйственной
деятельности древнего человека, осуществился переход от присваивающегося хозяйства к
производящему. Эпоха неолита на Нижнем Амуре представлена тремя культурами:
малышевской, кондонской, вознесенской. Все они имели общие черты и
последовательно сменяли друг друга. Неолитическое население Нижнего Амура
специализировалось на добыче и заготовке рыбы, об этом свидетельствуют
многочисленные находки крючков, блесен, гарпунов.
На Среднем Амуре наиболее древней из неолитических культур является
новопетровская, которую затем сменила громатухинская культура. Здесь кроме
рыболовецких орудий был найден богатый охотничий инвентарь.
Одной из основных особенностей, отличавших Приамурье и Приморье – в эпоху
неолита была оседлость. Как правило, поселения располагались на некотором удалении
от рек. Котлованы древних жилищ свидетельствуют о том, что это были полуземлянки.
Экономическую основу оседлого образа жизни людей, обитавших в Приамурье,
составляло рыболовство, а в таежных районах основным источником получения пищи
была охота. Собирательство у неолитических племен Приамурья имело подсобное
значение.
В III тысячелетии до н.э. в эпоху неолита у первобытных людей юга Дальнего
Востока зарождается земледелие. Об этом свидетельствуют присутствие в инвентаре ряда
приамурских и приморских памятников таких орудий, как мотыги, терочники, песты.
Появление этих инструментов говорит о развитии новой отрасли экономики –
культивации и обработки злаковых растений. Вместе с тем, различные районы юга
Дальнего Востока не являлись равноценными с точки зрения ведения земледельческого
хозяйства. Наряду с областями, имеющими благоприятные почвенно-климатические
условия, были зоны, где успешные занятия земледелием при низком уровне агротехники
чрезвычайно затруднялись или были просто невозможны. Это в первую очередь
прибрежные и горные районы.
Помимо занятий по добыче пищи, трудовая деятельность населения первобытных
поселков бассейна Амура включала разнообразные домашние промыслы и производства:
изготовление орудий труда и керамики, деревообработка, выделка шкур.
Примечательной чертой неолитического времени являлось выделение поселков с
узкой специализацией в определенных производствах. Такая специализация предполагала
достаточно высокий уровень присваивающей экономики.
В неолите у племен Приамурья выявилось яркое самобытное искусство. Оно
проявилось не только в оригинальности орнамента на глиняной посуде, но и в рисунках на
камнях. Самыми известными являются наскальные изображения (петроглифы) на Амуре
у с. Сикачи - Аляна, у с. Калиновки, на реках Кие и Уссури у с. Шереметьева.
Все эти изображения - проявления одного и того же художественного
мировоззрения.
Специфическая особенность амуро-уссурийских петроглифов заключается в
наличии особых масок - личин. Маски широко распространенные у большинства народов
в прошлом, употреблялись как средство перевоплощения человека в духа.
Развитие сахалинского неолита протекало в схожих условиях. Большое количество
метательных орудий, инструментов для обработки шкур указывает на ведущее значение
охотничьего промысла. Определенную роль в системе жизнеобеспечения играли также
рыболовство и собирательство. В неолитических памятниках Сахалина еще не
прослеживается выразительных признаков экономики морского типа. Лишь в более
позднее время в этом регионе формируется культура морских охотников и зверобоев.
Обзор неолитических культур Приамурья позволяет отметить два важных момента:
1. связь, преемственность культур неолита с древнейшими на рассматриваемой
территории культурами каменного века. Это родство наиболее отчетливо
просматривается в традициях изготовления орудий труда и предметов
вооружения из камня;
2. пестрота археологической карты Приамурья в неолитический период. Каждая
культура выступает как самостоятельное, оригинальное явление со своими
традициями материального производства, быта, хозяйства.
Сопоставляя особенности развития культур севера и юга Дальнего Востока в
неолите, можно прийти к выводу о постепенном разделении исторических судеб
населения этих регионов. Если в предшествующее палеолитическое время связи северной
и южной частей Дальнего Востока были стабильными и активными, то для неолита
характерна переориентация в культурных контактах обитателей Северо-Восточной Азии,
связи с южными регионами ослабевают. Одна из причин этого явления обусловлена
формированием различных основ хозяйственного уклада и образа жизни у населения
севера и юга.
Неолит – это время, когда на смену относительному однообразию этнокультурного
развития приходит процесс индивидуализации культур отдельных этнических групп. -
http://www.protown.ru/information/hide/6513.html
Неолитическая культура Якутии формировалась в тесном контакте с остальными культурами Северной Азии и Европы. Особенно близко
сходство неолита Якутии с прибайкальскими культурами. Оно прослеживается начиная с древнейших этапов. Об этом свидетельствует прежде всего керамика. Почти на всем протяжении Лены вплоть до Жиганска, а может быть, и севернее распространяется характерная для Прибайкалья круглодонная керамика, покрытая отпечатками сетки-плетенки и украшенная по краю венчика круглыми вдавлениями. Облик поселений также находит ближайшие аналогии в таежном Прибайкалье и резко отличен от поселений бассейна Амура и Приморья.
Якутские неолитические племена связывают с районами Центральной и Восточной Азии шахматно-шашечная керамика и ступенчатые тесла южноазиатских типов. О другом направлении культурных связей, на этот раз с далеким западом, северными областями Европы, рассказывают уолбинские наконечники стрел. Замечательно, что аналогичные уолбинским по форме и технике изготовления пластинчатые наконечники имеются в инвентаре погребений неолитического могильника на Южном Оленьем острове Онежского озера, в Скандинавии и в соседних странах Западной Европы. Наконечники такого типа относятся в Европе к раннему времени, ко времени могил с ходами, около 2800—1500 гг. до н. э., а может быть, и ранее. Есть в Европе исходные с уолбинскими трехгранные наконечники стрел в виде напильника. Они появляются на севере Европы в памятниках типа одиночных захоронений в каменных ящиках, датируемых временем около 1500 г. до н. э.
Такое совпадение резко локальных для Северной Азии наконечников стрел с наконечниками из Северной Европы не является случайностью или результатом независимого, конвергентного развития. Здесь нужно видеть следы древнейших культурных связей племен европейского Севера с арктическими племенами Якутии и соседних с ней областей азиатской Арктики. В пользу такого предположения свидетельствует сходство погребального обряда уолбинских захоронений с оленеостровскими (красная охра), а также наличие на якутских поселениях изделий, похожих на североевропейские (полулунные ножи, отбойники из цилиндрических галек).
Несмотря на свою отдаленность от других племен эпохи неолита, обитатели крайнего севера Якутии не были, следовательно, от них целиком изолированы. -
http://arheologija.ff.uni-lj.si/documenta/pdf31/31seferiades.pdf
An aspect of Neolithisation in Mongolia - the Mesolithic- Neolithic site ..
Mongolian Neolithic, & transference of technology
-
Чулуут — долина петроглифов

— Да будет ли когда конец этому перевалу? — с трудом прорываются сквозь надрывный рев мотора риторические возгласы нашего измученного водителя Якова Ивановича Здонова, — Да будь моя воля...
Как бы поступил Яков Иванович, будь его воля, я не расслышала. Но уверена — все было бы так же, ибо эту тряскую горную дорогу, буквально усеянную глыбами и валунами, все мы выбрали в дополнение к утвержденным планам экспедиции по собственной воле. Выбрали несколько дней назад в улан-баторской гостинице, где иркутский геолог П. В. Коваль и его товарищи рассказали нам об увиденных ими в маршруте изображениях, выбитых на скалах каньона реки Чулуут, по ту сторону перевала Хамар-дабан в Хангайских горах.
 За годы работы нашей советско-монгольской историко-культурной экспедиции было открыто много центров наскальных изображений. На археологическую карту Монголии были нанесены петроглифы скифского, хуннского, древнетюркского времен. Мы видели даже палеолитические рисунки охрой — мамонта и... страуса. Долгие годы не встречались рисунки эпохи бронзы, но изображения запряженных колесниц заполнили и этот временной пробел.
За годы работы нашей советско-монгольской историко-культурной экспедиции было открыто много центров наскальных изображений. На археологическую карту Монголии были нанесены петроглифы скифского, хуннского, древнетюркского времен. Мы видели даже палеолитические рисунки охрой — мамонта и... страуса. Долгие годы не встречались рисунки эпохи бронзы, но изображения запряженных колесниц заполнили и этот временной пробел.Однако «белым пятном» на этой карте древнего искусства Монголистана оставалось творчество конца каменного века — неолита и энеолита. А судя по описаниям геологов, за Хамар-дабаном, на Чулуутских скалах, весьма вероятно, оставили свой след люди именно этой эпохи. И решение пробиваться туда было принято членами отряда сразу же и, естественно, добровольно, а Яков Иванович яснее других представлял себе, что нам предстоит испытать.
...Наконец-то выше нас только небо. Мрачное, ветреное, неуютное. Вокруг первозданная безжизненность. И дорога, круто падающая в хаос скал, кажется отсюда бесконечной.
— Ну теперь-то самое оно и начинается, — вроде бы даже с удовольствием сказал Яков Иванович. И это было действительно «оно», ибо как мы выкатились на базальтовую террасу, сложенную гигантскими монолитами, на которых сквозь густую и темную патину времени проглядывали силуэты древних рисунков, я объяснить не могу. Помню только, что первой моей мыслью было — рисунки не те, о которых рассказывали геологи. Но, следовательно, — уцепилась за эту мысль надежда, — геологи видели лишь часть наскальных рисунков Чулуута: так, может быть, вообще здесь, в Чулуутском каньоне, неизвестный еще науке очаг древнего искусства Монголии?
...Так два года назад началось это открытие. Два поисковых сезона метр за метром обследовали мы скалы каньона. И теперь можно сказать — надежда первого дня оправдалась.
Мы поднимались вверх по Чулууту, и от камня к камню, от одного скального навеса к другому, то прямо перед глазами, то на головокружительной высоте над стремниной разворачивалась перед нами почти непрерывной панорамой тысячелетиями собиравшаяся грандиозная картинная галерея. Менялись стили и сюжеты, техника нанесения рисунков и персонажи, отражая смены поколений и эпох, но незримо прочерчивалась перед нами единая, пронизывающая тысячелетия общая мысль чулуутской каменной летописи — мольба о продолжении жизни племени, рода, природы.

...На том первом камне мы увидели необычную композицию — семь женщин, вытянувшиеся в ряд, как бы образовали хоровод. Они различаются головными уборами, но сходны позами — у всех широко расставлены согнутые в локтях руки. И главное — все они изображены рожающими или родившими. Во главе этого «хоровода» роженица с большими оленьими рогами. Перед нами была иллюстрация к древним сибирским и монгольским преданиям о Матери-оленихе, давшей согласно более поздним преданиям начало роду Чингисхана. А рядом сюжет, нам вообще не встречавшийся ранее, — несколько женских силуэтов, высеченных один под другим, причем каждая последующая фигура как бы рождается от предыдущей: на плоскости камня древний мастер изобразил время, время жизни поколений своего рода.
...Поросший густым кустарником и покрывшийся многовековым лишайником большой базальтовый валун. На двух его сторонах мы увидели странные фигуры, очевидно, связанные единым замыслом: маска для ритуального танца с ручкой внизу, бараньими рогами и трехконечной «антенной», змея и баран, непонятное изображение, похожее на фикус, и далее снова маска, но на этот раз медвежья. Видимо, этот валун был своеобразным «алтарем» древнего святилища, и рисунки на нем составляли часть большого и сложного ритуала, где маски были непременным его атрибутом.
Но что означала фигура, которую условно окрестили «фикусом», мы тогда так и не поняли. Да, сказать по совести, тогда у нас и времени не было предаваться раздумьям — все новые и новые «полотна» чулуутской галереи, которым, казалось, не будет конца, приковывали к себе все наши силы.
Буквально каждый камень таил в себе загадку, для расшифровки которой надо было привлекать огромный этнографический, археологический и фольклорный материал.
...В нескольких метрах от камня с масками нашли плиту с простым и ясным, казалось бы, изображением пятнистых быков. Так и обозначили мы эти фигуры в полевых дневниках. А поодаль обнаруживаем силуэт животного с пятнистой шкурой — у него тело быка, а рога... оленя. Стало очевидным, что перед нами быки, замаскированные под пятнистых оленей-онгонов, которые согласно древним верованиям были вместилищем душ предков. Так в один священный ряд выстроились тотемные изображения и маски медведя, Мать-олениха с символами нескончаемости рода и быки в оленьих шкурах с оленьими рогами.
Подошел к концу первый полевой сезон, а те рисунки, из-за которых и приехали-то мы в долину Чулуута, обнаружены не были.
 Всю зиму шли обработка снятых копий, анализ их, сопоставление с известным материалом. Новый полевой сезон мы уже начали сразу же в Чулуутском каньоне. И снова медленное продвижение вверх по течению реки, все новые и новые петроглифы запечатлеваются нашими фотокамерами, тщательно переносятся на кальки, листы ватмана. И вот наконец на отвесных скалах головокружительной крутизны увидели мы те рисунки, о которых рассказывали геологи. Ветровой загар — тысячелетняя патина — скрывает петроглифы настолько, что силуэты проступают лишь под косыми лучами закатного солнца. Только вечером можно увидеть шестерых танцующих жрецов, профильные фигуры женщин с молитвенно поднятыми руками. Руки мужчин и женщин трехпалые. Но это, мы знаем, не пальцы, а изображения птичьих лап. Птичьи головы, лапы и маски отражали одну из характерных черт древних мифов, где с птицей были связаны представления о небе, душе, «верхнем» мире, вселенной.
Всю зиму шли обработка снятых копий, анализ их, сопоставление с известным материалом. Новый полевой сезон мы уже начали сразу же в Чулуутском каньоне. И снова медленное продвижение вверх по течению реки, все новые и новые петроглифы запечатлеваются нашими фотокамерами, тщательно переносятся на кальки, листы ватмана. И вот наконец на отвесных скалах головокружительной крутизны увидели мы те рисунки, о которых рассказывали геологи. Ветровой загар — тысячелетняя патина — скрывает петроглифы настолько, что силуэты проступают лишь под косыми лучами закатного солнца. Только вечером можно увидеть шестерых танцующих жрецов, профильные фигуры женщин с молитвенно поднятыми руками. Руки мужчин и женщин трехпалые. Но это, мы знаем, не пальцы, а изображения птичьих лап. Птичьи головы, лапы и маски отражали одну из характерных черт древних мифов, где с птицей были связаны представления о небе, душе, «верхнем» мире, вселенной.В петроглифах Евразии трехпалые божества встречены от Скандинавии и Карелии вплоть до Индии. И дата их — неолит, начало энеолита. То самое «недостающее звено» в цепи открытой истории древнего искусства Монголии.
Перебираясь со скалы на скалу, пройдя десятки километров, обнаруживаем, что здесь, в монгольских горах, на Хангае, сюжет с антропоморфными фигурами достаточно стандартен и повторяется неоднократно и все время в одном контексте: рядом с быками, копытными и иногда с масками. И тогда-то наконец мы поняли смысл той фантастической фигуры, которую назвали первоначально «фикусом». Это схематическое изображение женщины с руками, поднятыми вверх, к голове, увенчанной огромными оленьими рогами. Итак, снова образ Матери-оленихи, но повторенный уже спустя долгие поколения.
Фигуры быков-туров, сопровождающие на петроглифах полулюдей-полуптиц, заслуживают специального внимания. Ведь иногда они показаны парящими выше солнца, иногда с рогами в виде луны, один раз со звездой над головой. Еще, быть может, рано говорить об их символике детально, но нельзя не признать, что самый темный период центральноазиатского искусства (эпоха конца неолита — начала энеолита) заполнен большой серией уникальных рисунков, воплотивших в себе миф каменного века — идеологию родового строя.
Конечно же, чулуутское святилище существовало много веков. На 120 с лишним километров протянулись базальтовые выступы террас с россыпями огромных валунов (результат извержения вулкана Хорог, происшедшего примерно 5500 лет назад), сплошь покрытых рисунками разных эпох.
Наше путешествие по реке Чулуут только начинается. И хотя удалось уже приоткрыть завесу 5000-летней давности и заглянуть в сложный и таинственный мир первобытных людей, самое интересное, бесспорно, впереди. Мы с нетерпением ждем нового сезона, новых поисков и перевалов, маршрутов в мир древних обитателей высокогорного Хангая.
http://www.vokrugsveta.ru/vs/article/5820/ Э. Новгородова, кандидат исторических наук Долина реки Чулуут — Москва
-
http://asiarussia.ru/news/3083/
5 июня 2014
1798
Могила Чингисхана найдена в Иркутской области?
По сообщению российских информагентств, улан-удэнец Дмитрий Багадаев расшифровал таинственные надписи и рисунки на древнем камне. Это осколок так называемого "оленного камня", который передавался в его семье из поколения в поколение. Ученые считают, что карта на нем была нарисована, точнее, вырезана значительно позднее, чем другие символы и рисунки. Скорее всего, она была сделана уже после того, как от большого камня откололи верхнюю часть.
Проехав более 500 километров по этой карте, Дмитрий Багадаев нашел захоронение монгольских ханов. По его мнению, одна из могил принадлежит самому Чингисхану.- Моего дедушку Прокопия в деревне звали Обоха, то есть «хранитель обо». Он был очень уважаемым человеком, - сообщил Дмитрий. – В 30-е годы, когда всех раскулачивали, деревенские специально просили за него перед секретарем райкома, чтобы в списках он числился не кулаком, а середняком. В итоге от репрессий он не пострадал. Дед Прокопий и еще несколько жителей деревни каждый год уходили в тайгу, на священное место, и там молились. Вроде бы, была там какая-то могила. Он и меня звал с собой, в последний раз это было в конце шестидесятых. Но я тогда был молодой, лет 16-17, и все это было мне неинтересно. Перед смертью дед Прокопий оставил мне священный камень, но ничего про него не объяснил. Сказал только, что когда-нибудь я за него большие деньги получу. Я только посмеялся.Несколько лет назад Дмитрий Багадаев решил выяснить, что же все-таки изображено на камне. Перенес рисунки на бумагу и показал ученым. Оказалось, на гранитной поверхности соседствуют знаки, принадлежащие к трем разным культурам. Один из них – китайский иероглиф, означающий «большой, могучий». Второй – арийский крест, символ неба. Третий больше всего напоминает древнеегипетский иероглиф, обозначающий быка или оленя. В итоге получается «большой небесный олень». Небесный олень или лось – главное божество тенгрианских религий, которые исповедовали предки современных монголов, бурят и якутов.
Это позволяет предположить, что кусок светлого гранита, доставшийся Дмитрию Багадаеву в наследство от деда, является осколком так называемого оленного камня. Оленные камни – это плоские гранитные плиты, которые ставили вокруг курганов, где кочевники хоронили своих ханов. Свое название они получили из-за того, что на них всегда присутствует изображение оленя.
Помимо символов, которые сложились в словосочетание «большой небесный олень», на камне были еще и рисунки. День за днем Дмитрий Багадаев пытался понять, что же на них изображено. Читал специальную литературу, изучал монгольские эпосы. Но однажды его осенило: еще раз присмотревшись к линиям и царапинам, он понял, что перед ним карта. Причем местность была ему хорошо знакома.
- Сперва я обратил внимание на волнистую линию и решил, что это река. От нее идут две глубокие царапины – долины. Я понял, что знаю это место. Два пересохших русла идут на север от реки в окрестностях деревни Наймагуты Осинского района. Там жил мой дед, и я провел там детство. Если двигаться по одному из русел, выходишь к большой скале. На камне в этом месте нарисован квадрат, - рассказывает он.
Ученые считают, что карта на осколке оленного камня была нарисована, или, точнее, вырезана значительно позднее, чем другие символы и рисунки. Скорее всего, она была сделана уже после того, как от большого камня откололи верхнюю часть.
После того, как Дмитрий Багадаев догадался, что на камне изображена карта, выбора у него уже не оставалось. Едва дождавшись весны, он поехал в соседнюю Иркутскую область, в Осинский район, и прошел весь обозначенный маршрут. На север от скалы он нашел огромную воронку. Вокруг было разбросано множество камней, подобных тому, что достался ему от деда. А еще в паре сотен метров обнаружился курган – и снова камни с какими-то символами. Один кусок гранита Дмитрий привез в Улан-Удэ и показал историкам из Бурятского научного центра. Они не смогли сказать по поводу находки ничего определенного. Чтобы установить происхождение странных камней, нужно произвести раскопки. А приоритет здесь у иркутских археологов, поскольку находится курган на территории Иркутской области.
Дмитрий Багадаев считает, что найденное им захоронение может оказаться ничем иным, как могилой Чингисхана. На камне, который он нашел возле воронки, сохранились надписи на старомонгольском языке. В частности, историкам удалось прочесть имя Чингис.
- По некоторым признакам, захоронение в Осинском районе является вторичным. Судя по всему, кто-то перезахоронил погребение из Джунгарии – области на границе Монголии и Северо-Западного Китая. Именно там жили предки Чингисхана, - заявил хозяин камня.youtube.com/watch?v=41MVBBbFAtY
Ученые пока относятся к подобной идее скептически. Хотя не отрицают, что находка Дмитрия Багадаева нуждается в серьезном изучении, сообщает «Smartnews».
-
Проказы монгольских археологов http://www.vokrugsveta.ru/telegraph/history/863/
От Монголии времен Чингисхана не осталось почти ничего: ни архивов, ни памятников, ни городов. О ней мы судим со слов народов, которые она покорила
«Никогда не оставляй в живых того, кто сделал тебе добро, чтобы ни у кого не быть в долгу». Чингисхан.
Снадобья Чань Чуня
В 1225 году Чингисхану исполнилось семьдесят. К этому времени были завоеваны проживающие на территории Южной Сибири лесные племена ойратов, тубасов и урсутов, сожжен Пекин, стерта с лица земли столица шахского Хорезма Ургенч, завоеваны Восточный Туркестан, Семиречье и Иран. Но Темучин как будто не чувствовал своих лет, непреклонно устремляя свои войска к «последнему морю». Да и с чего ему было предаваться мрачным размышлениям о старости, когда в его ставке находился сам цзюаньшень (праведный) Чань Чунь (1148–1227) — один из самых известных даосских учителей Северной школы. Он предсказал Чингисхану, что они умрут в один год. Фактически это была гарантия долголетия: Чань Чунь слыл мастером приготовления снадобий, продлевающих жизнь. Никто не сомневался, что он проживет не менее ста лет.
Посланный Чингисом на разведку на запад авангард под командованием доблестных нойонов Джэбэ (ок. 1181–ок.1224) и Субэдэя (1176–1248) прошел огнем и мечом Кавказ, вышел на Волгу и 31 мая 1223 года разбил русско-половецкие войска на реке Калке, после чего вернулся обратно. Направление будущих походов было определено.
Но сначала надо было завершить некоторые дела на востоке. Больше всего хана беспокоила ситуация в Китае. В те годы на территории Поднебесной империи существовало два государства: на севере — Цзинь, принадлежавшее чжурчжэням, на юге — Сун с китайской династией. В 1211 году монголы вторглись на территорию Цзинь и прошли её насквозь до провинции Шаньси в среднем течении Хуанхэ. В 1215 году была взята столица чжурчжэней Чжунду (Пекин). Но после ухода основных монгольских сил чжурчжэни вышли из повиновения. С тех пор на просторах северного Китая не прекращались ожесточенные боевые действия между двадцатитрехтысячным корпусом монгольского князя Мухули и восставшими.
Обреченное Си Ся
Но прежде чем идти на чжурчжэней, Темучин хотел вернуть один «должок». Речь шла о тангутском царстве Си Ся. Тангуты были народом, родственным тибетцам, но жившим несколько севернее. В переводе с их языка «Си Ся» означает «Белое [государство] Запада». Название говорящее: тангуты были буддистами. Белый считается сакральным цветом среди тех, кто собрался последовать путем Будды, а определение «западное» было призвано подчеркнуть, что Си Ся ближе других расположено к Западному раю будды Амитабхи. Тангутское царство тянулось полосой от Ордоса до Дуньхуана более чем на 1500 км. Сейчас это территория китайской провинции Ганьсу и Нинся-хуэйского автономного района.
Формально Си Ся уже было вассалом Чингисхана. Договор о ежегодной дани заключили ещё 15 лет назад. Но во время похода на Хорезм (1217) тангуты отказались предоставить войска в помощь монголам. Чингисхан воспринял это как личное оскорбление, но обиду не показал: силы нужны были для другого. И вот теперь наступил час расплаты.
Тангутам был предъявлен ультиматум — полная покорность, контрибуция и выдача царского сына в заложники. Те отказали, напрасно надеясь на поддержку чжурчжэней. Осенью 1225 года Чингисхан двинулся из Монголии на юг. Путь его лежал через горную цепь Три Красавицы, где в изобилии водились куланы. Великий хан любил охоту и не мог отказать себе в удовольствии лишний раз убедиться в крепости своих сил. Но на этот раз все оказалось по-другому. Лошадь чего-то испугалась и встала на дыбы, а хан не удержался в седле. Удар, судя по всему, был очень сильным, поскольку монголы прервали свое продвижение, ожидая выздоровления Чингиса.
Но вот наступил февраль 1226 года, и, сокрушая все на своем пути, армия Чингисхана вступила в пределы Си Ся. Сначала монголы опустошили все тангутские провинции, а петлю на шее её столицы — Чжунсина — затянули в декабре, форсировав Хуанхэ у Девяти переправ. Здесь, под Линчжоу, произошла решающая битва между монголами и тангутами. Стотысячное войско последних было наголову разгромлено. 21 ноября 1226 года Чжунсин был взят в осаду.
 На постройку Великой Китайской стены ушло 2000 лет. Общая ее протяженность — более 6000 км. Но она не спасла Поднебесную ни от чжурчжэней, ни от монголов, ни от маньчжуров. Фото (Creative Commons license): Michael Goodine
На постройку Великой Китайской стены ушло 2000 лет. Общая ее протяженность — более 6000 км. Но она не спасла Поднебесную ни от чжурчжэней, ни от монголов, ни от маньчжуров. Фото (Creative Commons license): Michael GoodineНо Чингисхан был мрачен, чувствуя, что скоро ему придется отправиться в мир предков. Вероятно, после падения с коня он получил какую-то серьезную внутреннюю травму, которая постоянно давала о себе знать. 23 июля 1227 года умер Чань Чунь… Все было предрешено.
Смерть на выбор
Существует несколько версий того, как умер Чингисхан. Персидский историк и визир монгольских ильханов Рашид ад-Дин (Rashid ad-Din Fadhlullah Hamadani, 1247–1318) утверждал, что причиной кончины полководца явилась некая болезнь, похожая на лихорадку. Может быть, это сказалась прошлогодняя травма. Марко Поло (Marco Polo, 1254–1324), много лет находившийся на службе у хана Хубилая (1215–1294) в Китае, пишет, что смерть наступила от раны стрелой, попавшей хану в колено. Вероятно, началось заражение крови. По мнению фламандского монаха-путешественника Гийома Рубрука (Guillaume de Rubrouck, ок. 1220–ок. 1293), Чингисхана убила молния. Но в любом случае все согласны с тем, что смерть предводителя монголов произошла до падения тангутской столицы. Датой смерти Чингиса принято считать 25 августа 1227 года. Его смерть пришлось держать в глубокой тайне. Чжунсин же скоро сдался и был разрушен. Когда его восстановили, город получил новое имя — Нинся («Усмиренное Ся»). Сейчас на его месте стоит Иньчуань.
Правда, есть и другие сведения, согласно которым Чингисхан все-таки успел насладиться видом сдавшейся столицы. По версии Абулгази (Abu al-Ghazi Bahadur, 1603–1664) — хивинского хана и вдохновенного историка из рода Чингизидов, — после сдачи города Темучин изъявил желание забрать жену царя тангутов — красивую Кюрбелдишин-хатун (Гурбэлджин Гоа-хатун). Но в первую же ночь царица, мстя за свой народ и мужа, зарезала Чингиса ножницами (по другой версии, перекусила ему сонную артерию), после чего бросилась в воды Хуанхэ. С тех пор монголы называют Хуанхэ Хатун-Мурэн — «Река царицы».
Но, как бы там ни было, тело Чингисхана надо было отправлять на родину, в Монголию. Тело положили в гроб, выточенный из цельного ствола столетнего дерева и обитый изнутри золотыми пластинами. Сам гроб поставили на большую двухколесную монгольскую телегу. Точного маршрута траурного кортежа никто не знает: все живое, попадавшееся на его пути, нещадно уничтожалось. Ученые предполагают, что путь каравана смерти лежал через Ордос. Также никто не знает, как удалось монголам сохранить тело своего предводителя от разложения, ведь они не владели искусством мумифицирования. Можно предположить, что этим занимались китайцы, находившиеся при монгольской ставке. Но прямых данных об этом нет.
Мавзолей имени Чингисхана
Существует легенда, согласно которой по дороге телега с телом великого хана намертво застряла в непролазной грязи. Английский историк Джон Мэн (John Man), написавший книгу о Чингисхане, предполагает, что это могло случиться на севере Ордоса, у гор, которые сегодня называются Инь. В тамошних низинах, пересекаемых речными протоками, действительно можно было легко застрять, тем более тяжелым повозкам. Сопровождавшие тело впали в отчаяние. И только пронзительная речь одного из нойонов, обращенная к духу полководца и напомнившая ему, что родина ещё далеко, заставила телеги двигаться вперед.
В 1956 году на ещё одном из предполагаемых мест вынужденной остановки каравана с телом Чингисхана китайцы построили большой мавзолей, называемый по-монгольски Эдсен Хоро — «Дворец Господина». Это в часе езды на юг от Дуншэна. Раньше здесь, на реке Чжамхак, стояли две белые юрты, в которых якобы хранились личные вещи великого хана: седло, бунчуки, одежда и оружие. Считается, что инициатива поклонения вещам Чингисхана принадлежит хану Угедэю (1186–1241). Им было выбрано несколько монгольский семей, освобожденных от всех повинностей, которые должны были следить за реликвиями и совершать обряды почитания отца всех монголов. Со временем это место обросло легендами, и к XV веку считалось, что в одной из юрт хранится серебряная рака с мощами Чингисхана. Однако в раку никто не заглядывал, а другие реликвии, которые хранились вместе с ней, по описаниям западных путешественников, были явно более позднего, не чингисова времени. Во время японской оккупации (1939) ценности вывезли в Тибет, в монастырь Гумбум. После войны реликвии вернули в целости, но через 12 лет, во время культурной революции (1966–1976), часть из них уничтожили хунвейбины. Поэтому некоторые атрибуты ханского культа в Эдсен Хоро — это копии. Однако мавзолей все равно пользуется большой популярностью среди туристов. Ежегодно его посещают до 200 тыс. человек.
Для китайцев и монголов вопрос, на чьей территории похоронен Чингисхан, — это вопрос национальной гордости. Пекин считает, что если Чингис и не был китайцем (а это ещё надо доказать), его вполне можно считать основателем новой китайской династии Юань. Но, конечно, серьезных аргументов у китайской стороны не так уж и много. Один из них — полумистические белые юрты.
Загадочная гора
Из средневековых источников нам известно, что Чингисхана похоронили на некой горе Бурхан-Халдун. Но, скорее, речь идет о её предгорьях. Рашид ад-Дин приводит легенду о том, что во время охоты в тех местах Чингисхану приглянулось «приметное» дерево, под которым он решил отдохнуть. Собираясь в обратный путь, хан завещал похоронить его в этих краях. Очевидно, Чингисом руководила не только любовь к прекрасному, но и почтение к предкам. Большинство историков согласны в том, что Бурхан-Халдуном средневековые авторы называли горы Хэнтэйского хребта с центральной вершиной Хан-Хэнтэй. Именно в этих местах, недалеко от реки Онон, кочевали предки Чингиса. Да и сам он родился в урочище Бурлук-булдак, в верхнем течении Онона, в шести днях пути от Буркан-Халдуна.
Из хроник известно, что по месту, где был похоронен Чингисхан, несколько раз прогнали табун лошадей, чтобы стереть все следы последнего пристанища великого завоевателя. Всех, кто участвовал в постройке гробницы и её охране, изрубили на куски. Это было сделано не столько ради предотвращения разграбления могилы, сколько с целью сохранения костей Чингиса в неприкосновенности. При этом условии Темучин получал возможность уйти из мира духов, воплотившись в одном из своих потомков. Если же кости будут потревожены, реинкарнация станет невозможной.
 В 2008 году на берегах Туула в 55 км от Улан-Батора была обнаружена одиночная могила девушки, которая, судя по одежде и украшениям, жила в эпоху Чингисхана. Некоторые историки делают смелое предположение, что она могла знать монгольского полководца, поскольку ее могила находилась на месте лагеря Темучина. Фото: Vidor
В 2008 году на берегах Туула в 55 км от Улан-Батора была обнаружена одиночная могила девушки, которая, судя по одежде и украшениям, жила в эпоху Чингисхана. Некоторые историки делают смелое предположение, что она могла знать монгольского полководца, поскольку ее могила находилась на месте лагеря Темучина. Фото: Vidor Правда, сложно представить, как на деле осуществлялось «утаптывание» ханской гробницы. Дело в том, что в наши дни предгорья Хан-Хэнтэя — это сильно заросшие лесом торфяники и болотца. Как по такой местности прогнать табун — непонятно. Но Рашид ад-Дин пишет, что местность заросла уже позже погребения Чингиса. В таком случае получилась идеальная маскировка. Эти места в 1961 году исследовал немецкий профессор из Лейпцигского университета (Universität Leipzig) Йоханнес Шуберт (Johannes Schubert). Его экспедиции попадались многочисленные обо — пирамидки из камней в местах поклонения духам. Кроме того, Шуберт наткнулся на чугунные котлы, куски деревянных лакированных чаш и россыпь изразцов. Это были останки храма, построенного здесь в XIII веке. Однако на этом изыскания Шуберта закончились. Правительство Монголии в те годы не поощряло исследований, связанных с Чингисханом, — «Большой Брат» не поймет.
Согласно ещё одной версии средневековых авторов, Чингисхан был похоронен на дне реки. Скорее всего, имеется в виду Онон — «родовая» река великого хана. Сообщается, что была сооружена плотина, которая отвела воду из основного русла. В подводной скале расширили пещеру, в которую поместили хрустальный саркофаг Темуджина. Потом плотину разрушили, вода потекла привычным путем, надежно охраняя гробницу. Всех, кто знал о месте захоронения, конечно, перебили. На вопрос, где может находиться это потаенное место, археологи разводят руками.
Открытая Монголия
Современные ученые очень внимательно относятся к сведениям средневековых авторов, но выдвигают и альтернативные версии, основанные на анализе археологического материала и местных легенд, благо таковых сохранилось великое множество.
После заката эры социализма Монголия стала доступна для иностранных археологов. Первыми инициативу проявили предприимчивые японцы. В 1990 году АН Монголии и газета «Иомиури» («Yomiuri Shimbun») организовали совместный проект «Гурвин гол» (по-монгольски «три реки»). В экспедиции приняли участие этнографы, археологи, геологи и геофизики. Руководил поисками монгольский профессор Бадам Хатан (Badam Hatan). С помощью новейшего оборудования экспедиции предстояло исследовать территорию междуречья Онона, Керулена и Туула, расположенную у восточных предгорий Хэнтэйского хребта. Площадь поисков впечатляла — 450 км². Однако могилы обнаружить не удалось. Были открыты только многочисленные захоронения бронзового века.
В 2001 году японцы снова приехали в Монголию. Проект назывался «Новый век». Теперь Монгольской АН предложили сотрудничество два японских университета — Ниигата (Niigata University) и Кокугакуин (Kokugakuin University). Раскопки начались на территории Восточного аймака (области). Работа долго не приносила результатов, но через три года археологам удалось найти фундамент постройки, которая вполне могла быть мавзолеем Чингисхана. Был найден жертвенник и китайские курильницы, украшенные драконами. В обнаруженных рядом засыпанных ямах оказались обгорелые кости жертвенных домашних животных. Все говорило о том, что где-то поблизости — по подсчетам ученых, в радиусе 12 км — должна быть и гробница Темучина. Но прошло три года, а ничего так и не нашли.
Одновременно с японцами вели раскопки и американцы. Их организовал Мори Кравиц (Maury Kravitz) — кладоискатель из Чикаго (Chicago), вложивший в дело $5 млн. Возглавил экспедицию профессор Чикагского университета (University of Chicago) Джон Вудс (John Woods). Копать решили у горы Биндэр, в урочище Оголчин-херэм. Это в 360 км на юго-восток от Улан-Батора (Улаанбаатар) в аймаке Хэнтэй. Кравицу повезло — он обнаружил средневековый могильник, состоящий почти из четырех десятков могил кочевой знати, обнесенных стеной высотой 3–4 метра. А в 56 км от этого места наткнулись на могилу с останками сотни воинов. Как тут было не предположить, что это именно те воины из внутреннего оцепления, которых перебили после похорон Чингисхана? Однако после нескольких лет трудов, в 2004 году, Кравиц объявил, что могилы Чингисхана пока обнаружить так и не удалось. Предполагалось продолжить изыскания дальше.
Но этого не произошло, поскольку бывший премьер-министр Монголии Дашийн Бямбасурен (Dashiin Byambasüren) обратился к президенту страны Нацагийну Багабанди (Natsagiin Bagabandi) с письмом, в котором сообщил, что «участники экспедиции разъезжают по священной земле на автомобилях и возводят постройки рядом с исторической стеной», что оскверняет прах предков. Он подчеркнул, что местные жители всегда были против раскопок, поскольку существует предание — вскрытие гробницы Чингиса погубит его народ. В 2005 году в аймаке началась засуха. Хэнтэй подвергся настоящему нашествию тутового шелкопряда, личинки которого плотным слоем покрыли место раскопок. Местные восприняли это как дурной знак, поднялся шум — в общем, экспедицию пришлось свернуть.
 Современная карта района, где разворачивались интересующие нас события Черная комната без черной кошки
Современная карта района, где разворачивались интересующие нас события Черная комната без черной кошкиИнтересная ситуация. Создается впечатление, что монголы просто-напросто водят иностранных археологов за нос. Поддерживая их ошибочные расчеты и разрешая копать в местах, где гробницы заведомо нет, они, вполне возможно, реализуют свои плановые археологические проекты. После бесславного завершения экспедиции Кравица монгольские ученые открыто заявили о том, что никакого Чингисхана в том захоронении и быть не могло, поскольку оно относится к более раннему, киданьскому, времени (Х-XII века), о чем им было известно еще в 1950-е годы.
По словам известного монгольского археолога Намсрайн Сэр-Оджавы, он сам и многие его коллеги считают местом захоронения Темучина совсем не те районы, в которых работали иностранные экспедиции. По одной версии, оно находится на южном склоне Хан-Хэнтэя (японцев пустили только на восточный склон), недалеко от озера Хух-нуур, в верховьях реки Богд. По другой версии — его нужно искать на территории сомона (района) Цэнхэрмандал, аймака Хэнтэй, на склоне горы Ногоон нуруу, в местечке Шарилын дугуй, недалеко от источника Борхурган, вблизи истока реки Цэнхэр.
Правда, японцы тоже время даром не теряли, особенно во время своей первой экспедиции. Они неплохо изучили минеральные ресурсы, залегавшие в районе работ археологов. Но вот что касается экспедиции Кравица, здесь остается делать только предположения. Может быть, она действительно ничего не нашла. Скорее всего, дело было именно так. Будь по-другому, Кравиц не дал бы себя выпроводить столь легко. Возможно, он, не подозревая, приблизился к чему-то, что монголы хотели бы держать в тайне. А может быть, причина конфликта касалась действительно только национальных традиций.
Попробовать найти могилу Чингисхана можно и на территории России. Речь идет о Баргузинской долине (по-монгольски Баргуджин-Токум), находящейся на территории Республики Бурятия напротив байкальского острова Ольхон. У бурятов существует много легенд, согласно которым Чингисовы кочевья доходили до Байкала. И этому есть подтверждение. Самая ранняя монгольская летопись — «Сокровенное сказание» (XIII век) — сообщает, что мать Чингисхана, Оэлун-учжин, происходила как раз из этих мест. Поблизости есть и священная гора — Барагхан-Уула, на которой якобы было стойбище одного из предков Чингисхана. Старики помнят рассказы своих прадедов, что когда-то на Ольхоне было большое обо с монгольским оружием. Конечно, могилу Чингиса в этих краях вряд ли найдут, но, может быть, на пару захоронений нойонов наши археологи могут рассчитывать.
Павел Котов, 19.02.2009
Никогда не оставляй в живых того, кто сделал тебе добро, чтобы ни у кого не быть в долгу». Чингисхан.ССМ говорит напротив ?!?
-
Тайна могилы Чингисхана
История, 12.01.2007 12:21:33, просмотров 7341, комментариев 18, рекомендовали 39 N
Могилу Чингисхана последнее время находят с завидной регулярностью. Официально называлось уже несколько мест в Монголии и Китае, претендующих на местонахождение его захоронения, но ни одна из версий не нашла пока что окончательного подтверждения. Среди серьёзных историков с мировыми именами есть и такие, которые утверждают, будто могила полководца вообще находится вне Монголии. Поисками захоронения останков Чингисхана на протяжении многих лет занимаются монгольские и зарубежные учёные, но пока найти её не удалось никому.
В шаге от сенсации
В сентябре 2001 года информационные агентства мира сообщили о сенсационном открытии могилы Чингисхана монголо-американской археологической экспедицией. В сообщениях говорилось, что в 360 км от Улан-Батора, близ горы Биндэр, были обнаружены порядка четырёх десятков могил, с трёх сторон окружённых каменной стеной высотой 3–4 метра и общей протяжённостью около 3 км. В центре ограждения расположена живописная природная скала. Это место известно как Красная скала (Оглочин-Хэрем), а также как Замок Чингисхана. В захоронении в южной части ограждения были зафиксированы специальными приборами-радарами останки более 60 человек, судя по обнаруженным там доспехам и оружию, относящихся к монгольской знати. По словам учёных, если в обнаруженных ими могилах на глубине 11 метров и нет тела Чингисхана, то останки великих монгольских ханов там точно находятся. Было сделано официальное заявление, что здесь покоятся великие монгольские ханы, и, возможно, среди них — Чингисхан. А в 56 км от этогоместа была найдена ещё однамогила, в которой похороненооколо сотни монгольских воинов. Это, по мнению американских учёных, те самые воины, которых, согласно легенде, убили, чтобыскрыть место гибели Чингисхана. Однако уже 20 октября 2004 года на информационных лентах появилось сообщение, что тела Чингисхана в могиле не оказалось. Дополнительное исследование не дало никаких результатов.
Следом появилось сообщение из Китая, в котором сотрудник музея Синьцзяна Чжан Хуэй заявил: «Мы нашли подлинную могилу Чингисхана». Согласно сообщениям китайских информационных агентств, подлинная могила монгольского полководца находится на севере Китая, в Синьцзян-Уйгурском автономном округе, вблизи монголо-китайской границы у подножия Алтайских гор, рядом с горой Чингила (Чинхэ). Эта сенсационная новость не получила своего продолжения и вскоре также исчезла с новостных лент.
В 2004 году японско-монгольской экспедиции при раскопках на территории сомона Дэлгэрхан Восточного аймака Монголии в местности Аврага удалось обнаружить фундамент здания. По внешнему виду он напоминал дворец Чингисхана-Великий Ордо.
При раскопках учёные нашли каменный жертвенник и китайские курильницы для благовоний с изображением дракона, который был символом верховной власти. На жертвеннике сжигали лошадей во время поминальных церемоний, устраиваемых после смерти высокочтимых людей. Участники экспедиции утверждают, что в одной из персидских летописей говорится о том, что недалеко от могилы Чингисхана постоянно горят курильницы именно такой формы (насколько можно понять, в летописи сказано именно о курильницах, а факт сооружения мавзолея в ней не отражён). В обнаруженных близ дворца четырёх глубоких ямах диаметром в полтора метра сохранились зола, остатки костей домашних животных, пепел шелковых тканей. Как гласят древние китайские источники, заметки путешественников тех времен, в Монголии по традиции после похорон ханов в специально вырытых ямах сжигали туши домашних животных, принесённых в жертву, наполняли ёмкости домашними кушаньями, кумысом. Но пока версия о том, что это здание могло быть поминальным мавзолеем Чингисхана, остаётся без доказательств. В средневековых летописях не удалось найти никаких упоминаний о строительстве поминального мавзолея рядом с местом погребения монгольского полководца.
В 2006 году в монгольской прессе появилось сообщение об обнаружении на западной окраине Улан-Батора руин третьего дворца Чингисхана. Правильна ли гипотеза — покажет время, в «Сокровенном сказании монголов» на этот счёт нет точных географических ориентиров, поэтому можно говорить лишь о найденных фрагментах строений, украшенных изображением дракона, рисунками обезьян, тигра, льва. Планировка дворца напоминает строения XIII века, но доказать, кому оно принадлежало, пока невозможно.
Великого Хана похоронили на Байкале?
Кроме Китая и Монголии на место подлинного захоронения Чингисхана претендует и Россия. На Байкале существует легенда о воинах Чингисхана, якобы останавливавшихся табором на мысе Кобылья голова острова Ольхон и оставивших на самом конце мыса огромный чан. Легенду опубликовал немецкий историк Г. Миллер в 1761 году в «Истории Сибири»: «По рассказам монголов, Чингисхан имел своё главное местопребывание при реках Ононе, впадающей в Шилку, и Куринлуме, впадающей в озеро Далай. Они же рассказывают, что Чингисхан иногда доходил со своими кочевьями до озера Байкал. Доказательством этого должен будто бы служить таган, поставленный им на горе на острове Ольхоне, который находится на указанном выше озере, и на тагане большой котёл, в котором лежит лошадиная голова. Хотя я не получил подтверждения этому от бурят, живущих в окрестностях озера Байкал и на острове Ольхон, я всё же считаю приведённое известие о владениях Чингисхана весьма вероятным, так как первые завоеванные Чингисханом земли — Китай и Тангут — лежат поблизости». Каких-либо подтверждений этой легенды в наши дни на Ольхоне не сохранилось, и историки убеждены, что монгольский полководец никогда не был на этом острове.
В Баргузинской долине сохранилась другая легенда — о могилах знатных монгольских нойонов. В «Золотой тетради», летописи всех монгольских ханов, и в «Сокровенном сказании» говорится, что предки Чингисхана «…явились, переплыв Тенгис» (внутреннее море), под которым большинство исследователей понимают озеро Байкал, хотя, по мнению переводчика, это может быть и Каспийское море. В те времена у монголов существовала традиция брать жён из местности Баргуджин-Токум. Изначально земля Баргучжинская понималась историками как вся земля, примыкающая к Байкалу, а племя борджигины, по мнению Л.Н. Гумилёва, означало «синеокие». В описании персидского историка Рашид ад-Дина Баргуджин-Токум размещалась у самого края страны енисейских кыргызов, за Минусинской котловиной до Байкала и дальше на восток. Хотя в «Сокровенном сказании» нет на этот счёт убедительных ссылок, ряд историков считают, что Баргуджин-Токум — это Баргузинская долина на восточном побережье Байкала, напротив острова Ольхон. В пользу этой версии свидетельствует также факт, что здесь расположена священная вершина Барагхан-Уула, у подножия которой по преданию располагалось стойбище одного из предков Чингисхана. Гора ещё во времена монголов приобрела статус священной. По буддийской традиции эта гора входит в список пяти самых священных вершин и охраняет буддийское учение с севера. По мифологии бурят на этой горе пребывает Хажар Сагаан нойон — хозяин Баргузинской долины. На вершине горы сложено большое обо, в котором в давние времена местные жители нашли монгольские сабли, щит и наконечники копий, что послужило основанием для легенды о захороненном на вершине этой горы знатном баргутском правителе. Из «Сокровенного сказания» также известно, что мать Чингисхана — Оэлун-учжин — была уроженкой страны Баргуджин-Токум. Она ездила на кладбище в «землю предков». У бурят существует молва, что монгольский правитель также ездил поклоняться могилам предков. Перед смертью он дал наставление своим сыновьям, чтобы его тайно похоронили в земле предков, куда многие века ездили на моление предкам его родичи. Если согласиться с версией, что Баргуджин-Токум, где по описанию находится земля предков рода Чингиса, — Баргузинская долина, то возможно, что и могила Чингисхана тоже находится здесь.
Справка
Чингисхан умер в 1227 году (по восточному календарю это был год Свиньи) во время похода на Тангутское государство. Причём в разных источниках приводятся различные версии его смерти: от раны стрелой в бою, от продолжительной болезни, после падения с лошади, от удара молнии, от руки пленённой тангутской ханши в первую брачную ночь.
Чтобы могила Великого хана в последующие времена не была найдена и осквернена, после захоронения по степи несколько раз прогнали многотысячный табун лошадей, уничтоживший все следы могилы. По другой версии, гробница была устроена в русле реки, для чего река была на время перекрыта, и вода направлена по другому руслу. После захоронения дамбу разрушили, и вода вернулась в естественное русло, навеки скрыв место захоронения. Всех, кто участвовал в захоронении и мог запомнить это место, впоследствии умертвили, тех, кто исполнял этот приказ, впоследствии постигла та же участь.
Сергей Волков
-
О Чингисхане и поисках его могилы
ЧИНГИСХАН (ТЭМУЧИН, 1162-1227). Основатель и великий хан Монгольской империи. Родился на берегах реки Онон в урочище Дэлюн-Булдан, которое исследователи локализуют в 230 верстах от Нерчинска (Читинская область) и в 8 верстах от китайской границы. В 13 лет Тэмучин лишился отца, которого отравили татары. Старейшины монгольских племен отказались подчиняться слишком молодому и неопытному наследнику хана и ушли вместе со своими племенами к другому покровителю. Так молодой Тэмучин остался в окружении лишь немногих представителей своего рода: матери, младших братьев и сестер. Вся их собственность включала лишь восемь лошадей и родовой "бунчук" -белое знамя с изображением кречета и с девятью хвостами яка, символизирующее четыре больших и пять малых юртов его рода.
В 17 лет Тэмучин отправился с другом Бельгутаем в стойбище отца красавицы Борте (по обычаю монголов, брачный контракт был заключен отцами еще в девятилетнем возрасте девочки) и взял ее в жены. Впоследствии в истории она стала известна как Борте Фуд-жин, императрица, мать четырех сыновей и пяти дочерей Чингисхана. И хотя летописи сообщают, что у Чингисхана за его жизнь было около пятисот жен и наложниц из разных племен, среди пяти главных жен первая жена - Борте Фуджин - всю жизнь оставалась самой почтенной и старшей.
В летописях мало сообщается о молодости Тэмучина, но после того, как однажды на рассвете к его кочевью примкнуло одновременно много племен, монго быстро окрепли и уже составляли 13 тыс. человек. Через некоторое время под родовым знаменем Тэмучина был"уже 100 тыс. юртов. Заключив союз с кераитами, "отношения непоколебимой дружбы с вождем кераитов Тогрул-ханом объединенные орды Тэмучина и Тогрул-хана нанесли поражние старым врагам монголов татарам. Стареющий Тогрул скоро потерял власть, его сыновья во главе кераитов выступили против Тэмучина и одержали победу в сражении. Для укрепления своего положения отступивший Тэмучин за зиму объединил вокруг себя большинсво племен Северной Гоби и весной напал на кераитов и меркитов и разбил их. Хроники сообщают, что Тэмучин постановил, чтобы никто из меркитов не остался в живых. Оставшиеся кераиты встали под знамена Тэмучина. В течение трех лет после битвы, сделавшей его хозяином Гоби, Тэмучин посылал войска на земли западных тюркских племен, найманов и уйгуров и везде живал победы. Более подробно история Чингисхана описывается в летописях, когда он достигает 41-летнего возраста
В 206 г. курултай - съезд ханов всех монгольских племен - провозгласил Темучина великим ханом и присвоил ему титул Чингисхана - "Величайшего из правителей", "Повелителя всех людей".Правление Чингисхана укрепило центральную власть и вывело Монголию в самых сильных военных государств Центральной Азии того времени. Война было провозглашена самым действенным средством приобретения материального благополучия. Так началась эпоха великих военных походов монголов. Чингисхан, его сыновья и внуки, завоевав территории других государств, создали самую крупную по своим размерам империю в истории человечества, куда вошли Средняя Азия, Северный и Южный Китай, Афганистан, Иран. Монголами были совершены военные набеги на Венгрию, Моравию, Польшу, Сирию, Грузию, Армению, Азербайджан, Тибет, Корею, Бирму и на остров Ява. (Принято считать, что на протяжении 250 лет, с 1237 по 1480 гг., монголо-татары держали под своим игом Русь. Однако, в последние годы появились интересные сведения, что отношения между нашими народами в те времена были далеко не однозначными. Сыновья русских князей специально посылались в Монголию, для обучения воинскому искусству. Войско Александра Невского, при битве на Чудском озере, на 2/3 состояло из профессиональной монгольской конницы. А собираемая с Руси дань - имела чисто символическое значение.).
Чингисхан умер в 1227 г. во время похода на страну тангутов Си-Ся. Есть несколько версий его смерти. По одной из них, во время облавной охоты на диких лошадей конь полководца чего-то испугался и шарахнулся в сторону, а хан упал на землю. После этого старый император почувствовал себя плохо. Его военачальники хотели прервать поход и вернуться домой, но Чингисхан настоял на продолжении. И даже перед самой смертью он потребовал, чтобы факт его кончины тщательно скрывался до окончательной победы над тангутами. По другим версиям, хан скончался от ранения стрелой (так писал Марко Поло) и даже от удара молнии (этой версии придерживался другой путешественник Плано Карпини). А по распространенной монгольской легенде, Чингисхан умер от раны, нанесенной тангутской ханшей красавицей Кюр-белдкшин-хатун, которая провела с Чингисханом единственную брачную ночь. Ее специально подослал тангутский царь Шидурхо-Хаган, отличавшийся хитростью и коварством. По этой легенде, красавица укусила хана в шею, повредив сонную артерию, и тот умер от потери крови.
Как бы то ни было, все ученые сходятся во мнении, что смерть хана наступила в 1227 г. и не была естественной.
Умер Чингисхан в походной обстановке. Глава огромнейшего из государств мира, занимавшего 4/5 Старого Света, повелитель полумиллиарда душ, обладатель несметных богатств, он до конца своих дней чуждался роскоши и излишеств. После покорения Средней Азии его военачальники обзавелись прекрасными турецкими кольчугами и дамасскими клинками, но сам Чингисхан, несмотря на то что был страстным любителем оружия, принципиально не последовал их примеру и остался равнодушен к мусульманской роскоши. Он продолжал носить одежду кочевника, придерживался старинных обычаев и завещал своему народу не изменять этим обычаям во избежание растлевающего влияния на нравы китайской и мусульманской культур.
Согласно предсмертному желанию Чингисхана, его тело было отвезено на родину. "Сокровенное сказание" и "Золотая летопись" сообщают, что на пути следования каравана с телом Чингисха к месту погребения умерщвлялось все живое: люди, животные, птицы. В летописях записано: "Они убивали каждое живое существо, которое видели, чтобы весть о его смерти не разнеслась по окрестным местам. В четырех его главных ордах совершили оплакивание, и его похоронили в местности, которую он перед тем однажды соизволил назначить в качестве великого заповедника".
По преданию, Чингисхан был похоронен в глубокой гробнице на родовом кладбище Их-Хориг у горы Бурхан-Халдун, в истоках реки Ургун. Он восседал на золотом троне Мухаммеда, привезенном им из захваченного Самарканда. Чтобы могила в последующие времена не была найдена и осквернена, после захоронения великого хана по степи несколько раз прогнали многотысячный табун лошадей, уничтоживший все следы могилы. По другой версии, гробница была в русле реки, для чего река была на время перекрыта и вода направлена по другому руслу. После захоронения дамбу разрушили, и вода вернулась в ественное русло, навеки скрыв место захоронения.
В процессе похорон принимали участие 2000 человек. Всех их сразу же по окончании церемонии изрубили на куски 800 конных охранников из войска хана. Но и эти 800 воинов прожили не более суток: их вскоре казнили, чтобы сохранить место захоронения в тайне. Затем были высланы специальные патрули, которые убивали всех, кого заставали в близлежащих землях.
По обычаю, ровно через год, требовалось справить поминки. Дабы безошибочно найти место погребения, монголы сделали следующее: На могиле принесли в жертву только что взятого от матери маленького верблюжонка. И через год верблюдица сама нашла в безбрежной степи место, где был убит её детеныш. Заколов эту верблюдицу, монголы совершили положенный обряд поминок и затем покинули могилу навсегда. Таким образом, тайна захоронения Чингисхана остается нераскрытой до сих пор.
С 1990 г. после развала СССР - большого друга монгольского народа - в Монголию косяками устремились американские и японские экспедиции на поиски могилы Чингисхана. Единственным условием со стороны монгольского правительства для археологов было - не беспокоить праха их великого предка. Экспедиции потратили на поиск этого захоронения миллионы долларов, но их усилия оказались пока напрасными.
15 сентября 2000 г. пекинские средства массовой информации сообщили о сенсационном открытии: китайские археологи обнаружили могилу легендарного военачальника и основателя Монгольской империи Чингисхана. Китайские коллеги уверяли, что захоронение обнаружено ими вблизи монголо-китайской границы у подножия Алтайских гор на территории Китая.
Правда, у китайцев не обошлось и без противоречий. Еще в 1950 г. в Китае построен мавзолей, где, по утверждению тех же археологов, хранится прах великого Чингисхана, который был якобы обнаружен в северной провинции Цинхай. Но профессор Чан Ху - руководитель исторического музея в Урумчи и один из открывателей захоронения Чингисхана - уверяет, что прах, хранящийся в китайском мавзолее, не может принадлежать хану.
Два года назад японская "Асахи" сообщила о новой находке. Группа археологов из университетов Кокугакуин и Ниигата приступили к раскопкам еще в 2001 году в районе Аврага у деревни Делгерхаан (провинция Хентий) - предположительное место расположения дворца Чингизхана. Там в 2004 году и было обнаружено фундаментное основание со стороной в 25 метров, напоминающее развалины мавзолея, который может относиться к периоду с XIII по XIV век. Доцент университета Ниигата Нориюки Сираиси считает, что место захоронения Чингизхана скорее всего располагается в радиусе около 12 километров от развалин мавзолея.
Наша команда также искала и продолжает искать могилу легендарного полководца и государственного деятеля. В 2003 году, не найдя следов этой могилы в районе поселка Джазатор, на юге Республики Алтай, мы, преодолев таинственное и труднодоступное алтайское плато Укок, вышли к священному сетигорью Табын-Богдо-Ола, где сходятся границы России, Китая, Казахстана и Монголии. В этих суровых местах нет ни жилья, ни пограничников. В течение месяца мы обследовали те места, где китайцы якобы нашли в 2000г. захоронение Чингисхана и близлежайшие районы монгольской территории. Но тщетно: кроме многочисленных тюркских и скифских могильников нами ничего обнаружено не было.
В Юбилейный 2006 год, когда Монголия широко отмечала 800-летие образования своего государства, мы предприняли интереснейшую и продолжительную экспедицию по северным и западным районам этой страны, ( г. Иркутск -Кырен - Монды - Кырен - Турта - Ханх - оз. Хубсугул - остров Далай Модон -Ханх - Дархадская котловина -ущелье Джиглэг-Гол - перевал Джилэгийнн-Даба - долина р. Арсайн-Гол - Хатгал - Цагаан-Уул - пещера Даин-Дээрхийн - оз. Увс-Нуур - г. Ульгий - оз. Даян-Нуур - долина Харгант - оз. Толбо-Нуур базовый лагерь г. Цаст-Ула - г. Ульгий - г. Улан-Батор).
Более 3000 километров было преодолено нашей экспедицией на автомашинах и лошадях от Байкала до монгольского Алтая, в поисках знаменитой могилы, т.к. мы никогда не сомневались, как не сомневаемся и теперь - в возможности её находки:
Во первых, мы убеждены в том, что никакие табуны священную могилу никогда не затаптывали. Для монголов культ мёртвых является одним из самых главных и непоколебимых устоев нации. Даже бедный пастух тут обязательно будет иметь свою могилу. И величайшим оскорблением памяти самого великого из соплеменников было бы попрание его могилы копытами коней. Лишь могила злейшего врага заслуживала подобной участи, чтобы даже память о нём была уничтожена. А тут - Отец нации!
Этот блеф был специально пущен в свет для того, чтобы в него поверили охотники до осквернения могил; будь то грабители, будь то археологи.
Во вторых, мы знаем, что мудрые древние всегда производили почётные захоронения в т.н. "Местах Силы". Потому-то и сейчас в таких местах можно встретить рядом могилы тюрков и скифов, воинов Чингисхана, и современные могилы шаманов. Таких мест не так уж много в Монголии. Всех их можно и нужно обследовать.
В тот раз нами были изучены захоронения сакральной долины "Память мёртвых" ("Tunel"), что на 10 километров протянулась между двумя горными грядами, северо-восточнее пос. Морон. Здесь тысячи различных погребальных курганов разных эпох.
Есть здесь и захоронения чингисхановских "темников" (командир "тьмы", составляющей 1000 воинов). В полном боевом облачении и при оружии, их заворачивали в шкуру собственного коня и хоронили в особых курганах, высотой до 3-х метров и диаметрами от 5 до 30 метров. Курганы эти опоясывались кольцами камней, числом своим соответствующими количеству боевых походов умершего полководца.
Сотникам же ставили памятные стеллы-балбалы, окружая их вертикальными камнями, по числу убитых ими врагов.
Особенным образом хоронили Чингизидов - кровных родственников Чингизхана. У того было более 500 жён, но только дети первой жены Бортэ образуют четыре ветви генеалогического древа Чингизидов. Их хоронили поблизости от родовых мест и ставили на могилах каменные скульптуры-памятники. Их иногда, по неграмотности, называют "бабами", по аналогии с захоронениями половецкого матриархата. Но интересующийся человек всегда отличит скульптуру военачальника с усами и при оружии, от примитивного пузатого идола.
В ту экспедицию мы нашли 8 захоронений Чингизидов (одно даже на погранзаставе), но главный для Монголии могильник так и не был найден.
Теперь пришло время поискать его южнее, - в беспредельных просторах таинственной пустыни Гоби.
автор: Александр Редько -
тюрки и уйгуры были монголами:
тюркют - түргэн -быстрый - очень быстрые люди
уйгур - үй олон / многий + гар /руки - очень многие руки

-
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0-%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%81
Хар-Балгас или Карабалгасун («чёрный город») — древняя столица Уйгурского каганата в VIII—IX веках, называвшаяся также Орду-балык ("столичный город").
-
А тюркских следов на терр. Монголии много, и из этого тоже можно делать разные выводы.
Монголия наследник Тюркского каганата.

-
Тюрко-монгольские народы в ХII столетии
http://admw.ru/books/Imperiya-tyurkov--Velikaya-tsivilizatsiya-/56
После тысячелетнего тюркского могущества на территории современной Монголии и на всей Центральной Азии пришло время монголов.
Монголия может рассматриваться как наиболее восточная часть евразийской степной зоны, которая протянулась от Маньчжурии до Венгрии. С древнейших времен эта степная зона была колыбелью различных кочевых племен иранского, тюркского, монгольского и маньчжурского происхождения.
Термин «монголо-татары» – достаточно искусственный. Название «монголы» под именем «мэньу» или «мэнва» упоминается в старых и новых историях китайской династии Тан (618–908 гг.). Древние монголы были выходцами из племен шивэй. Шивэй – одна из этнических групп киданей – занимали с юга на север пространство от Великой Китайской стены и находились на различных ступенях культурного развития. Та часть племен шивэй, которая именовалась монголами, жила кочевой жизнью в степных районах к югу от нижнего течения Аргуна и верхнего течения Амура. После падения Уйгурского каганата (середина IX в.) древние монголы стали переселяться на запад, на территорию современной Монголии.
Согласно монгольским легендам, собранным Рашид-ад-Дином, монгольский народ, который в далекой древности покорили тюрки, ушел в горы Эркене-Кун. В какую-то эпоху, которую персидские историки относят к IX в., предки монголов, предположительно, снова спустились с Эркене-Кун на равнины Селенги и Онона.
Слово «татары» впервые встречается в древнетюркских рунических надписях в 732 г., и с тех пор оно получает широкое распространение в Центральной Азии. Название «татары», как полагают, было названием конкретных племен из совокупности племен шивэй.
Древнетюркская и мусульманская письменные традиции распространили название «татары» на все монголоязычные и тюркоязычные племена, превратив таким образом этот этноним в общий политоним. Термин «татары» через древних уйгуров попал в китайский язык и регулярно фиксируется в китайских текстах с 842 г. Между тем на рубеже 60—70-х гг. ХII в. при попустительстве китайских властей татары учинили разгром монголов, и название «монгол» почти исчезло в самой Монголии, уступив место названию «татары».
Однако в начале XIII в. Чингисхану удалось разбить татарское воинство. В «Сокровенном сказании», монгольской хронике 1240 г., устами самого Чингисхана об этом событии сказано следующее: «…мы сокрушили ненавистных врагов – татар, этих убийц дедов и отцов наших».
Название «монгол» (в мусульманских источниках – «могол» или «могул») было не только восстановлено, но со времени правления Чингисхана стало употребляться в качестве официального названия династии и государства (с 1211 г.), а позднее – и как названия народа. Что касается Европы, то тюрко-монголы даже после своего возвышения были известными там, прежде всего, под нарицательным именем «татары». Эта именная форма была частично игрой схожести изначального имени с классическим Тартаром. Как объясняет хронист Матвей Парижский, «эта ужасная раса Сатаны – татары… рванули вперед, подобно демонам, выпущенным из Тартара (поэтому их верно назвали „тартарами“, ибо так могли поступать только жители Тартара)».
Многие воины монгольских армий, которые вторглись на Русь, были тюрками под монгольским руководством, и поэтому имя «татары» в конечном итоге применялось на Руси к ряду тюркских племен, которые поселились там после монгольского вторжения, подобно казанским и крымским татарам.
Тот странный факт, что имя «татары» скоро стало обозначать всех тюрков, всех степняков Восточной Европы, Центральной Азии и Сибири, не случаен, поскольку он, должно быть, свидетельствовал о том, какое важное место занимал этот народ в монгольском конгломерате.
Итак, приблизительно до тысячного года монгольские племена входили в состав древнего тюркского государства Хунну; с VI по VIII в. – в Великий Тюркский каганат; с VIII по IX в. – в Уйгурский каганат. После распада Уйгурского каганата уйгуры ушли из Каракорума и на территории современной Монголии остались монгольские и малые тюркские племена. В X в. киданьский император государства Ляо даже приглашал уйгуров вновь вернуться из Ганьчжоу в Каракорум, но последние отказались.
Столетиями монгольские воины вместе с тюрками ходили в походы против общего врага – Китайской империи. Будучи вассалами тюрков (тюрки в ранний период контролировали Монголию), монголы участвовали почти во всех военных походах. Совместные военные походы, совместное сосуществование и, как следствие, метисация – все это, безусловно, отразилось на обычаях, традициях тюрков и монголов.
По версии певцов монгольских степей, волк и лань были первыми прародителями царских родов до Чингисхана. Этих эмблематических животных часто находили отлитыми в бронзе в многочисленных поселениях Сибири.
Волк – животное-тотем великих древних мифов у тюрко-монгольских народов. Можно удивляться при виде лани, спаренной с волком, хищником, чьей добычей она чаще всего является. Но речь идет здесь, очевидно, о символическом союзе мужских качеств волка – силы и смелости – с женскими добродетелями лани – ловкостью и грацией.
Среди мифов, восходящих к предкам Чингисхана, известна легенда, которая связана одновременно с животными и с солнцем: так, от союза волка и лани родилась женщина по имени Алан Коа. Затем она была оплодотворена солнечным лучом, который, проникнув через отверстие для дыма в крыше юрты, коснулся живота женщины, и из него вышли предки великого хана – монголы-нируны, в их числе Бодончара, предок Чингисхана в восьмом поколении.
Тюрки мало чем отличались от монголов. Они издавна имели племенные федерации, объединявшие алтайских степняков, тюрков, монголов, тунгусов. Дистанция между двумя различными тюркскими племенами не больше, чем между тюркским племенем и монгольским. И если их языки не похожи друг на друга, то у них одинаковая синтаксическая система, которая предполагает одинаковую систему рассуждений. Эти племена всегда действовали вместе, но крупных соединений кочевников из Верхней Азии, уйгуров, подданных Караханидов, и, конечно, туркменов Ирана и Афганистана, кыпчаков и булгар было больше, чем монголов на полях битв в Западной Азии и Восточной Европе.
Близкие родичи тюрков, рожденные, как и они, в духовной среде шаманизма, поселившиеся на той же земле, где они черпали свою энергию в продолжение нескольких сотен лет, монголы начали организовываться и обеспечивать свое превосходство. У них был долгий и мучительный «период беременности», но он закончился рождением гиганта. Давно реки Орхон и Селенга ничего не порождали, но там скапливались активные силы, которым вскоре предстояло вырваться наружу. А пока, до Чингисхана, относительно крепким государством, образованным монголоязычными племенами – сяньби в Восточной Монголии (I–IV вв.); кидани – в Монголии, Маньчжурии и Северном Китае (IX в.), – не удавалось сыграть ведущую роль в степной политике.
Кочевое общество проявляло высшую мобильность, а политика кочевников отличалась динамизмом. Пытаясь использовать проживающие рядом народы и контролировать наземные торговые пути, кочевники собирались время от времени в огромные орды, способные начать натиск на далекие земли. Однако в большинстве случаев, создаваемые ими империи не были особо крепкими и разваливались так же легко, как и создавались. Периоды единения кочевников и концентрации их власти в одном особом племени или группе племен перемежались с периодами раскола во власти и отсутствия политического единства. Следует вспомнить, что западная часть степной зоны – Причерноморские степи – контролировались вначале скифами и сарматами, а затем гуннами, аварами, хазарами, печенегами и половцами, также и тюрки в ранний период контролировали Монголию.
В ХII в. в Монголии не существовало централизованного государства. Множество племен и объединений родов жили в различных частях страны без каких-либо пограничных линий между ними. Большая часть их говорила на монгольском языке, за исключением западного региона, где тюркский язык был в активном обиходе. В более отдаленном этническом фоне имелось присутствие примеси иранской крови, как у тюрков, так и у монголов.
Каким бы то ни был этнический источник племен, населявших Монголию в ХII столетии, все они были схожи в стиле жизни и социальной организации, и поэтому можно говорить об их принадлежности к одной культурной сфере.
Итак, в конце XII в. карта Азии представляла собой следующую картину: Китай был разделен на две империи – Южный Китай находился под властью династии Сун; на севере управляли маньчжурские завоеватели – чжурчжэни, которые обосновались в Пекине в 1125 г. Они были известны как Золотая династия (Цзинь). Продолжая традиции ранних китайских императоров, Цзинь жестко отслеживала события в Монголии, с тем чтобы предотвратить создание там единого государства.
В северо-западной части Китая, в нынешнем Ордосе и Ганьсу, образовалось тангутское царство Си-Хья тибетских племен. В северовосточной части Тарима, от Турфана до Кучи, жили уйгуры – «цивилизованные» тюрки, впитавшие в себя буддийскую и несторианскую культуры. Район Иссык-Куля, Чу и Кашгария составляли империю Каракитаев, народа монгольской расы и китайской культуры. Мавераннахр и Иран почти целиком принадлежали султанам Хорезма – тюркам по расе, мусульманам по религии, воспитанным в духе арабо-персидской культуры. За ними остальная часть мусульманской Азии была поделена между аббасидскими халифами Багдада, айюбидскими султанами клана курдской расы и арабской культуры (Сирия и Египет) и султанами-сельджуками тюркской расы, иранизированной культуры (Малая Азия).
Это была уже оседлая Азия. За ее пределами, на севере, у сибирско-монгольских пределов, в степях к северу от Гоби и в предгорьях Алтая, Кунгея и Кентау, кочевало множество племен, принадлежавших к трем ветвям алтайской расы: тюркской, монгольской и тунгусской. Несмотря на языковое разделение, большая часть кочевников Верхней Азии вела одинаковый образ жизни, жила в одной климатической зоне и имела этническое родство, которое удивляло всех путешественников. Все европейские и китайские историки дают один и тот же физический портрет этих народов: круглое лицо, плоский нос, выступающие скулы, раскосые глаза, толстые губы, редкая борода, черные жесткие волосы, смуглая кожа, продубленная солнцем, ветром и морозом, невысокий рост, массивное тело, кривые ноги. Этот портрет хунна или монгола напоминает и жителей Севера, к примеру эскимосов, потому что тяжелая жизнь на просторах, продуваемых зимними ветрами и обжигаемых летним солнцем, формирует расы, способные противостоять суровому климату.
Невозможно определить точное местопребывание многих из этих племен, поэтому ниже приводится предположительная их локализация.
Один из главных тюрко-монгольских народов, найманы, обитали, по всей вероятности, в районе нынешнего Кобдо и Убса-Нора до самого Черного Иртыша и в Зайсан-Норе до верхнего течения Селенги. «Хотя их имя и кажется монгольским – „найман“ означает „восемь“ по-монгольски, – их далекие предки были тюрками, т. е. они являются монголизированными тюрками» – так писал Пеллио. Ж.-П. Ру отмечал, что найманы были тюрками, переживавшими глубокую монголизацию, и «в неустойчивом положении между тюркоязычием и монголоязычием» они находились под влиянием одновременно несторианства уйгуров и шаманизма. Среди них было много приверженцев несторианства. В «Джахан-Кушай» даже говорится о том, что в начале XIII в. один из их ханов, знаменитый Кючлюк, был воспитан в духе этой религии. Однако «Сокровенное сказание» свидетельствует о том, что шаманы также имели огромное влияние на найманов, потому что якобы могли во время войны вызвать бурю и другие разрушительные явления. Найманы заимствовали свои культурные принципы у уйгуров, своих южных соседей. В начале XIII в. найманский хан держал при себе грамотного уйгура в качестве «хранителя печати» и писца, этот тюрк звался (в китайской транскрипции) Та-Та-Тонга.
Лоск найманской культуре придавали постоянные связи с оседлыми народами и более тесное общение с западными путешественниками. Рубрук говорит о найманах-несторианцах как об «истинных подданных Отца Жана».
Здесь следует отметить, что монголы, не имевшие ни письменности, ни самых примитивных наук, тянулись к знаниям и искали учителей и чиновников для своей администрации и дипломатии. Позже учителями стали китайцы и мусульмане, которые не оказали большого влияния на генезис монгольской культуры. Зато уйгуры, их соседи, издавна поддерживали с ними контакты. Может быть, они понимали всю перспективность таких связей и делились с монголами всем, что знали, по крайней мере всем, что те могли усвоить: они дали им алфавит, который с тех пор стал монгольским, дали им свой язык для международных отношений, свою культуру, которая в некоторой степени стала чингисидской культурой. Сами они также извлекли из этого выгоду: укрепили свое положение в империи и свой престиж, тем самым обеспечив себе жизнестойкость, благодаря чему письменный уйгурский язык с уйгурскими буквами продержался до самых потрясений, которые имели место уже в новые времена.
Возвращаясь к найманам, следует сказать, что Китай чжурчжэней также пользовался у них большим почетом, о чем свидетельствовал титул тайанг, который носили их ханы во времена Чингисхана и который происходил от китайского словосочетания тайванг, т. е. «великий царь».
Севернее найманов, в верховьях Енисея, жили кыргызы, тюркские племена, чьи вожди носили титул инала; примерно в 920 г. их изгнали из Верхнего Орхона кидани, и с тех пор они уже не играли выдающейся роли в истории.
В смысле могущества с найманами можно сравнить кераитов. Некоторые востоковеды локализуют их к югу от Селенги, в верховьях Орхона, Тулы и Онгкина. По мнению других, найманы ушли далеко на восток, в район Каракорума, где начиналась территория кераитов. Кераитов обычно считают тюрками. Пеллио писал: «В легенде о происхождении монголов им нет места, и сегодня трудно сказать, были ли кераиты монголами, попавшими под тюркское влияние, или тюрками на стадии монголизации; во всяком случае, многие кераитские правители были тюрками, а Тогрул – это, скорее, тюркское имя, чем монгольское». Возможно, кераиты приняли несторианство в самом начале второго тысячелетия в обстоятельствах, о которых сообщает сирийский историк Бар Хебраеус: «Кераитский хан заблудился в степи, и его спас святой Саргис (святой Сергий). По совету торговцев-христиан, которые находились в стране, он попросил несторианского митрополита Мерва (Хорасан) Эбеджесу приехать лично или прислать священника, чтобы окрестить свое племя». Письмо Эбеджесу несторианскому патриарху Багдада Жану VI (около 1011 г.), датированное 1009 г., на которое ссылается Бар Хебраеус, гласит, что 200 тыс. тюрков-кераитов были окрещены вместе с их ханом.
В ХII в. члены царствующей кераитской фамилии продолжали носить христианские имена, что породило на Западе легенду об Отце Жане.
Севернее кераитов, в нижнем течении Селенги, к югу от Байкала, жили меркиты, племя тюркской, возможно, монгольской расы, среди которых были и христиане. Кстати, некоторые ученые идентифицируют их как «мукри», другие называют «мо-хо», т. е. амурскими тунгусами. Еще дальше на север, к западу от Байкала, жили ойраты, народ монгольской расы (их имя означает «конфедераты»). Именно здесь в VIII в. предположительно находилась конфедерация Трех Курикан, упоминаемая в надписях в Цайдаме.
На самой северной окраине Маньчжурии, между Аргунью и Амуром, где сегодня живут саланы тунгусской расы, обитали их предки саланги.
Южнее, на южном берегу Керулена до самого Хингана, кочевали татары, которых Пеллио относит к тюркоязычным племенам. Татары, объединенные в конфедерацию «Девять татар» или «Тридцать татар», упоминаются в тюркских надписях в Цайдаме (VIII в.), когда они жили, возможно, в нижнем течении Керулена. Татары ХII в. были грозными воинами и считались самыми свирепыми из этих народов. Они представляли собой большую угрозу для китайского царства Цзиней. Поэтому цзиньский двор в Пекине ослаблял их, помогая Чингисхану.
«Чистые» монголы (в историческом смысле и в узком значении этого слова), в среде которых родился Чингисхан, кочевали в северовосточной части нынешней Внешней Монголии, между Ононом и Керуленом.
История зафиксировала существование народов, говоривших на монгольских языках, задолго до появления племен, которые, вместе с Чингисханом, дали это имя всей группе, точно так же, как мы узнали тюркютов до появления тюрков. Так, к монголоязычным народам относят сеньпеев III в., жужаней и эфталитов V в., аварцев Европы VI–IX вв.; общепризнано, что кидани, игравшие большую роль в VIII в., говорили на монгольском диалекте.
Что касается «чистых» монголов, то в XII в. они разделились на множество улусов («улус» означает и племя, и небольшую народность, например Владимирцов толкует слово «улус» как нация или народность, слово «ирген» переводит как племя, а «улус-ирген» – как государство). Эти независимые племена постоянно враждовали между собой, а также со своими соседями. По мнению Груссе, семья, из которой вышел Чингисхан, принадлежала к ветви рода борджигинов, клана киятов. Впоследствии, после того как Тэмуджин стал Чингисханом, монгольские племена начали делить на две категории: по принадлежности или непринадлежности к киятам. Первые входили в категорию «нирунов», Сынов Света, «чистых», а вторые – «дюрлюкины» – относились ко второму сорту. В число нирунов входили тайджиготы, тайчиуты, или тайджиуты (жившие обособленно от основной массы к востоку от Байкала), урууды и мангкуды, джаджираты, или джуйраты, барласы, баарины, дорбаны (дорботы), салджигуты, или салджиуты и катагины, или катакины. В группу дюрлюкинов входили арулаты, или арлады, байауты, короласы, или корласы, сулдусы, икирасы и конгираты, онгираты, конкураты, или конграды (последние обитали на юго-востоке, в районе Северного Хингана, рядом с татарами). Пеллио отмечает, что джаджираты и конгираты упоминаются вместе с меркитами в китайской истории киданей с 1123 по 1124 г. Джелаиры, которых относят к монголам и локализуют либо южнее слияния Хилока и Селенги, либо ближе к Онону, – это, вероятно, тюркское племя, вассал монголов, ассимилировавшееся с монголами во времена легендарного монгольского героя Кайду.
С точки зрения их образа жизни монгольские племена в конце ХII в. можно чисто теоретически разделить на степные, жившие в степных районах, и племена охотников и рыбаков, обитавших в лесах. Надо отметить, что в этой приграничной зоне между Сибирью и Монголией сфера обитания монголов находилась как раз между степью, переходящей в пустыню на юге, и лесными районами на севере. Гренар полагает, что изначально монголы не были степным народом, а, скорее, представляли собой жителей лесных предгорий. Он подчеркивает, что об их «лесном» происхождении свидетельствует широкое распространение деревянных повозок: до сих пор в отличие от степняков – хазар – они использовали не кожаные емкости, а деревянные бочки.
Степные племена, особенно кочевые, периодически меняли место обитания в поисках пастбищ. На стоянках они разбивали войлочные шатры, так называемые юрты. Лесные племена жили в хижинах, сделанных из березовой коры.
Во главе степных, или скотоводческих, племен, которые были более зажиточными, стояла очень влиятельная аристократия, а ее предводители носили титулы баатура (герой, богатырь), нойона (вождь, господин), а также сэчэна (мудрый) и билгэ (мудрый, по-тюркски), тайши (китайский титул принца). Их главной задачей был поиск пастбищ и обеспечение соплеменников работниками и рабами, которые пасли скот, ставили и разбирали юрты. На ступень ниже аристократии стояли остальные социальные классы: воины, или, вернее, люди, в основном свободные (нокоры), простолюдины (карачу) и, наконец, рабы (боголы). В последнюю категорию входили не только отдельные работники, но и целые покоренные племена, из которых, помимо всего прочего, набирали вспомогательные войска.
У племен лесных охотников (хойин-ирген) аристократическая верхушка не играла такой большой роли, как у скотоводов. На лесных охотников значительное влияние оказывали шаманы. Когда последние объединяли в своих руках и царскую власть и магические способности, они получали титул баки, или баги, который, кстати, носили при Чингисхане вожди ойратов и меркитов. У всех тюрко-монгольских народов важную роль играли шаманы, или колдуны (камы – на древнетюркском; бога и шаманы – на монгольском; шань-мани – в китайской транскрипции). Например, важное место в создании империи Чингисхана принадлежит шаману Кокчю, о котором речь пойдет далее.
На практике разделение между скотоводческими и лесными народами было не столь явным. Например, «настоящие» монголы, тайджиуты, были лесными охотниками, а Чингисхан происходил из племени скотоводов. С другой стороны, все тюрко-монголы в какой-то мере были охотниками: лесные люди в зимнее время на деревянных или костяных лыжах добывали зверя для пропитания и торговли, скотоводы охотились с помощью аркана или лука. Степная аристократия предпочитала соколиную охоту. Любой клан мог менять образ жизни в зависимости от окружающей среды. В юности у Чингисхана отобрали родительское стадо, и ему вместе с матерью и братьями пришлось вести тяжелую борьбу за выживание – и охотиться, и ловить рыбу, – прежде чем он получил своих законных лошадей и коз.
Очевидно, лесные племена были более дикие и почти не поддерживали отношений с цивилизованным миром, в отличие от кочевников, которые имели в этом смысле преимущество, так как жили по соседству с уйгурами в Центральном Гоби, с киданями, чжурчжэнями Пекина. У них не было городов, во время стоянок они разбивали лагерь, организованный по семейным группам (аилам), где войлочные юрты ставились на колесные повозки, расставленные по кругу, – это был прообраз будущих городов, но впоследствии эти «передвижные города» исчезли из употребления.
Этнографы отмечают постепенный переход от убогой хижины лесного монгола к войлочной юрте кочевника, которую легко собрать и разобрать и которая у великих чингисидских ханов XIII в. стала удобной и просторной, устланной мехами и коврами, настоящим походным дворцом.
Однако в целом очевидно, что в XII в. в Монголии произошел регресс по сравнению с IX в. В эпоху владычества монголов на Орхоне тюркские племена, особенно уйгуры, начали создавать сельскохозяйственные центры; начиная с кыргызского владычества, с 840 г., этот прогресс остановился, страна вернулась к степному образу жизни.
Захват страны кыргызами в 840 г. привел к угасанию сирийско-согдийской культуры, носителями которой были манисейцы. После изгнания кыргызов в 920 г. страна погрузилась в хаос, хотя присутствие уйгуров препятствовало полной деградации. Уйгуры жили южнее, в Бешталигхе (Гучэн) и Турфане. Оттуда шла несторианская вера, хотя в Монголии она деградировала до шаманства и соперничала с ним в завоевании авторитета у племенных вождей.
Надписи уйгуров на Орхоне свидетельствуют об уровне цивилизации, которого мы не видим в истории Чингисхана. Многие слова, перешедшие из тюркского в монгольский язык, указывают на культурное превосходство тюрков над монголами. То же самое, по мнению Бартольда и Поппа, можно сказать и о языках тюрков и монголов. Сегодняшний монгольский язык любого региона кажется архаичным по сравнению с самыми древними тюркскими языками. Письменный монгольский остался, в смысле фонетики, почти на том же уровне, на каком находился примитивный алтайский, т. е. тюрко-монгольский язык.
Что же касается имени «монгол», то оно избежало забвения благодаря причуде истории – случайной принадлежности будущего императора Чингисхана к одному из монгольских родов. С его приходом к власти все племена Монголии объединились под его предводительством, и была создана новая «нация», известная как монголы, по сути являющая собой тюрко-монголов.
Стоит напомнить в этой связи, что в ходе степных войн побежденные присоединялись к победителям и, как гласит один старинный текст, «отдавали им свою энергии и силу». Наряду с разными кланами, которые составляли ядро чингисханских войск, под его властью были большие тюркоязычные племена – найманы, кераиты, онгуты, карлуки, кыргызы, уйгуры, татары. Другими словами, как отмечает Ж.-П. Ру, «на одного монгола приходилось семеро тюрков!» -
Когда и как Казахстан был покорен монголами?
Казак Добавлено: 21.07.2008, 10:12:165.Поэтому Чингизхан - это по-существу первый казахский хан, который объединил всех тюрков, а западных кипчаков, которые не признали его частично разогнал.Путник Добавлено: 18.07.2008, 20:47:393) Более верно то, что 50% казахов и есть монголы, которые пришли с Чингисханом!
-
По версии тюрков Монголия может быть наследником тюркских государств:
-почти все монгольские племена были тюрками (найманы, меркиты, хэрэйды и т.д) и монголы произошли от тюрков.
-столицы древних тюркских государств находились на территории Монголии: Хунну, Жужаньский каганат, Сяньби, Тюркский каганат и Уйгурский каганат
-
Короче, если разоблачить один официальный миф, то само собой начнут разоблачаться и все другие, связанные с ним, потому что все они выдуманы были с единой целью - сокрыть истинную историю племен Чингизхана!
Дерни за веревочку и клубок сам начнет разматываться!!!

А потому официально принятое и не обсуждаемое четкое разделение народов и племен прошлого на монгольские и тюркские, на монголоязычные и тюркоязычные, лично я считаю самой настоящей фольк-хисторией!
(хотя и допускаю, что начиная приблизительно с 14-16 вв. произошли значительные события, приведшие к резкому отчуждению и разрыву этих двух групп одного целого)
Казахстанские журналисты намерены доказать наличие у Будды казахских корней
http://i-news.kz/news/2014/06/09/7577503-kazahstanskie_zhurnalisty_namereny_dokaz.html
09.06.2014
Казахстанские журналисты намерены доказать наличие у Будды казахских корней. Об этом на пресс-конференции заявил продюсер портала 365info.kz Дмитрий Бацией, передает КазТАГ.
«Сейчас наши корреспонденты находятся в Непале. Там снимается фильм об исследованиях казахской научной экспедиции. Цель — доказать, что у Будды есть казахские корни. Я еще не знаю, какие материалы будут оттуда привезены, но я думаю, в любом случае они будут интересны», — сказал Дмитрий Бациев.
При этом он отметил, что проводится целый комплекс исследований для того, чтобы доказать эту точку зрения. «Там серьезные люди. Там проводится целый комплекс исследований, включая анализ ДНК», — пояснил продюсер.
На вопрос о том, верит ли он сам в то, что у Будды были казахские корни, Дмитрий Бациев ответил, что «готов поверить в самые невероятные вещи».
http://www.yaplakal.com/forum3/topic832712.html
Будда - казах!
Хан Мамай- хохол, Будда- казах... Куда катится мир?
В каждом народе есть альтернативный историк, который пытается доказать, что его народ - великий. Не обращайте на них внимание.
в советское время в Армении на портретах висящих в людных местах и на памятниках - Ленин был похож на армянина,
носом был похож ,
замечено было неоднократно это сходство, Раньше подобной хней только туркмены страдали. Помнится, под мудрым руководством Туркменбаши Сапармурата Ниязова туркменские ученые нашли, что на туркменских коврах (сами ковры, кстати, очень красивые и знаменитые на весь мир, без шуток) узор такой же, как на циновках американских индейцев.
И сделали вывод, что индейцы произошли от туркмен.
Казахи как народность, появились приблизительно в 16м веке. Это утверждал еще сам Ч. Валиханов (казах).
Экватор..
Легенда гласит, что было время, когда всем миром владели поровну два могучих батыра. Один - ровно одной половиной, второй - ровно другой половиной.
Но каждый из них хотел быть единоличным хозяином на этой земле. И столкнулись они в жестокой схватке на границе своих владений. И бились они ровно 100 лет и 100 дней и ночей, пока не умерли от старости. С тех пор, называется это место – Екi батыр...
Древние казахи были отличными мореплавателями. Благодаря чему совершали морские путешествие в разные страны... Однажды в неизвестном заливе с казахского корабля спустили пять лодок для высадки на берег неизвестной страны (позже казахские ученые узнали что это была Испания). Но попав в бурю эти лодки затонули. Погоревав казахи окрестили этот злосчастный залив Бес кайк - Бискайским заливом...
Италия …
Италия происходит от Ит елi, с казахского языка переводится, как "страна собаки". Всем известно, что по легенде Рим основали выкормыши волчицы или дикой собаки. ..
Не всем известно, но Украинский город Харьков основали казахи.
В первый день их пребывания всю местность завалило снегом и старейшина Рода воскликнул: О! Кар коп! (т.е. Много снега!).
Также нуждается в глубоком изучении происхождение города Москвы, который казахи назвали Мас коп, и как утверждают другие народы, назвали очень метко...
На самом деле, первым Америку открыл не Колумб, а .... казахи.
Бразилия .. Приплыв в Южноамериканский континент, они наткнулись на такое множество племен, что находясь в месте их наибольшего скопления они сказали Бiраз ел бар , то есть "тут довольно много всяких народов". И называется то место с тех пор Бразилия. ..
Южная Америка вообще очень продвинутый континент в плане заимствования из казахского. Кроме Бразилии и Эквадора, еще целый ряд стран ведет свои названия от казахских корней. Так, крупный экспортер вишни (жители США могут подтвердить) - Республика Чили на самом деле так и называется - Шиелi, просто в ходе использования слово было искажено. Не исключено, что нарочно. И не иначе как злобными конквистадорами. ..
Далее известная древняя легенда о путешествиях братьев Оракбая и Паракбая, которые основали южноамериканские государства Уругвай и Парагвай ..
Аргентина.. Присутствие казахских корней еще более специфически отражено в названии соседней страны - Аргынтины. По звучанию этого слова можно сделать однозначный вывод о том, в честь какого из казахских родов была названа местность. Причем с очень большой степенью точности. ..
Но это еще не все. Изыскания продолжаются, и следующий этап охватит и Центральную Америку. Так, еще предстоит исследовать историческую роль ранее неизвестного Сал-батыра, в честь которого названа и страна Сальвадор и даже столица этой страны. ..
Плыли както казахи по морю и приплыли к одному острову. И жила на том острове только одна девушка. Звали её Таня. Посмотрели на неё казахи и подружили с ней чуток... А остров назвали БiрТания..
Казахи часто совершали военные походы на Европу. Европейцы их ошибочно называли то гуннами, то монголами. Как то участвовали в одном из таких походов 4 брата - Мурат, Жанатай, Шырак и Арман. Во время захвата одного города во Франции четыре брата влюбились в местных девушек и решили остаться в той стране навсегда. Потомки этих четырех братьев до сих пор называют своих детей Арман, Мюрат, Ширак и Жан...
Как известно предки казахов - гунны (или хунны) были очень воинственным народом. Они воевали с Китаем, и до того доконали бедных, то китайцам пришлось построить Стену, чтобы отгородиться от гуннов. Гуннам не с кем стало воевать, они обиделись на китайцев и дружно поскакали на запад. На западе (в Европе)гунны, под предводительством Атиллы, стали воевать с Римской империей. И сразу всем стало весело. И то место где они кочевали гунны назвали - Хун жерi (земля гуннов). С тех пор эта страна так и называется Hungary (Венгрия)...
После того хан татаров (тюрков) Токтамыш хан сжег столицу Руси и порезал всех их жителей, он вернулся к себе в Орду.. и его би спросил его "как ты захватил столицу урусов, как вырезал все население этого города?".. Токтамыш сказал "Это было довольно легко, аксакал.. когда я со своими верными батырами и воинами ворвался в город, все жители были пьяны и мы без труда перебили их всех" (это кстати историческая правда).. Би поразмыслив сказал "Иа, сол калада мас коп екен" (Да, много в этом городе пьяниц).. так и нарекли они этот город - "Мас коп" что преобразовалось в Москов, Московия, Москва..
Казахи как известно издавна кочевали в Южной Сибири. В 17 веке туда переехало много русских семей, которые убегали от царского гнета. Русские спросили у казахов "Есть ли у вас ненужное место чтобы мы построили себе там деревню?". Гостеприимные казахи закивали: "Иа! Орын бар, орын бар" (Есть у нас место). Русские обрадовавшись и построив деревню так и назвали её - Орынбар. Деревня разрослась, стала городом, и когда туда приехала царские чиновники, они изменили название на европейский лад - Оренбург...
Давным-давно, когда казахи еще не были мореплавателями, решили они открыть новую землю. Построили корабль, дошли до моря, оттолкнул от берега, и главный казах сказал: "Алга!" Но первой же волной корабль прибило к берегу. Казахи не растерялись, снова спустили свое судно на воду и предводитель опять провозгласил: "Алга!!". Но и тут им не повезло - корабль выкинуло на пляж так же, как и в первый раз. И когда судно было спущено на воду в третий раз, главный казах сказал:
"Алга, акен аузын!!!" - и корабль поплыл. Первый остров, который открыли казахи, до сих пор называется Окинава...
Высадившись на этот остров гордые казахи-мореплаватели увидели маленьких и желтых японцев. Увидев их, казахи ужаснулись и воскликнули
"Ой-бай! Сумрай !! Аузына сiгейiн !!"
Таким вот образом в японской истории появились легендарные самураи и сёгуны...
Хотелось бы надеяться, что другие исследователи внесут свой посильный вклад в поиски утерянных следов казахского языка на глобусе.
из цикла "Казахские народные игры"
Баскетбол - народная казахская игра. Название происходит от трех казахских глаголов в повелительном наклонении: бас - наступай, дави
кет - уходи, отходи бол - будь, давай. Поистине, мудрое название! Довольно лаконичное – концепция игры отражена в трех словах!
Все знают, что означает слово секс, но мало кто знает, откуда оно произошло. А дело было так. Когда казахи мореплаватели приплыли к острову Альбион, их встретила представительная местная делегация. Причем очень гостеприимно, ну и желая удивить гостей, повели их показать Стоунхендж. Когда пришли к Стоунхенджу, оказалось, что, молодые люди из местных, парень и девушка, устроились заниматься любовью в тени строения. Встречающие, конечно, очень смутились и постарались отгородить спинами влюбленных. Но казахам было не до них. Они в восхищении рассматривали величественное строение, цокали языками и удивлялись тому, сколько усилий ушло на его постройку – «еее, каншама сігыс». Ну, говорили они конечно на казахском, и британцы разобрали в чужом языке только одно слово, которое чаще всего повторялось «сігыс». Корректные британцы не стали уточнять, в каком смысле гости использовали слово «сігыс», а просто в честь пикантной ситуации произошедшей во время дипломатического мероприятия, назвали занятия любовью этим иностранным словом, немного переделав на свой лад «секс».
Вся правда о киргизах
http://rus.azattyq.mobi/comments/a2100543p2nl2.html?ex=True
Не все знают, но первый человек был киргизом. когда Бог сотворил человека, он спросил у него "На земле под моей сенью живут много тварей. Звери, птицы, рыбы. Как ты хочешь для того, чтобы тебя назвали? Как тебя звать?" Первый Человек ответил: "Мен - АДАМ" (Я - ЧЕЛОВЕК). так и назвал его Бог – Адамом. Киргизы были широко известны своими географическими открытиями и прочими названиями. Экватор.. Легенда гласит, что было время, когда всем миром обладали поровну 2 могучих батыра. Один - ровно одной половиной, второй - ровно другой половиной. Но каждый из них хотел быть единоличным хозяином на этой земле. И столкнулись они в бесчеловечной схватке на границе своих владений. И бились они ровно 100 лет и 100 дней и ночей, пока не умерли от старости. С тех пор, называется это место – Екi батыр... Древние киргизы были замечательными мореплавателями. Благодаря чему совершали морские поездка в различные страны.. Однажды в неизвестном заливе с киргизского корабля спустили 5 лодок для высадки на берег неведомой страны (позже киргизские ученые узнали что это была Испания) Но попав в бурю эти лодки затонули. Погоревав киргизы окрестили этот злосчастный залив Бес кайк - Бискайским заливом... Италия … Италия происходит от Ит ели, с киргизского языка переводится, как "страна собаки" Всем понятно, что по легенде Рим основали выкормыши волчицы или же необузданной собаки. .. Не всем понятно, но Украинский город Харьков основали киргизы. В первый день их присутствия всю местность завалило снегом и старейшина Рода воскликнул: О! Кар коп! (т.е. Много снега!). Тоже нуждается в глубоком изучении происхождение города Москвы, который киргизы назвали Мас коп, и как заявляют другие народы, назвали очень метко... Действительно, первым Америку открыл не Колумб, а ... киргизы. Бразилия . Приплыв в Южноамериканский континент, они наткнулись на такое большое колличество племен, что находясь в месте их наибольшего скопления они сказали Бираз ел бар , другими словами "тут достаточно много всяких народов" И называется то место с тех пор Бразилия. .. Южная Америка вообще очень продвинутый континент в плане заимствования из киргизского. Помимо Бразилии и Эквадора, еще целый ряд стран ведет свои названия от киргизских корней. Так, крупный экспортер вишни (жители США имеют все шансы подтвердить) - Республика Чили действительно так и называется - Шиели, просто в ходе использования слово было искажено. Не исключено, что нарочно. И не иначе как злобными конквистадорами. .. Далее распространенная древняя легенда о путешествиях братьев Оракбая и Паракбая, коие основали южноамериканские государства Уругвай и Парагвай .. Аргентина. Наличествие киргизских корней еще больше специфически отражено в названии соседней страны - Аргынтины. По звучанию этого слова можно сделать однозначный вывод про то, в честь какого из казахских родов была названа местность. Причем с очень большой степенью точности. .. Но далеко не все. Изыскания продолжаются, и следующий рубеж охватит и Центральную Америку. Так, еще предстоит исследовать историческую роль ранее неведомого Сал-батыра, в честь которого названа и держава Сальвадор и даже столица этой страны. .. Плыли както киргизы по морю и приплыли к одному острову. И жила на том острове только одна девушка. Звали её Таня. Смотрели на неё киргизы и подружили с ней чуток.. А остров назвали БирТания.. Киргизы часто совершали военные походы на Европу. Европейцы их ошибочно называли то гуннами, то монголами. Как то участвовали в одном из таких походов 4 брата - Мурат, Жанатай, Шырак и Арман. Во время захвата одного города во Франции 4 брата влюбились в местных девушек и решили остаться в той стране навеки. Потомки этих четырех братьев до сих пор называют своих детей Арман, Мюрат, Ширак и Жан... Как понятно предки киргизов - гунны (или хунны) были очень воинственным народом. Они воевали с Китаем, и до такого доконали бедных, что китайцам пришлось построить Стену, для того, чтобы отгородиться от гуннов. Гуннам не с кем стало воевать, они обиделись на китайцев и все вместе поскакали на запад. На западе (в Европе)гунны, под предводительством Атиллы, стали воевать с Римской империей. И незамедлительно всем стало весело. И то место где они кочевали гунны назвали - Хун жери (земля гуннов) С тех пор эта держава так и называется Hungary (Венгрия)... В последствии такого хан татаров (тюрков) Токтамыш хан сжег столицу Руси и порезал всех их обитателей, он вернулся к себе в Орду. и его би спросил его "как ты захватил столицу урусов, как вырезал все население этого города?". Токтамыш сказал "Это было достаточно просто, аксакал. когда я со своими верными батырами и воинами ворвался в город, все обитатели были пьяны и мы без труда перебили их всех" (это кстати будет заметить что историческая правда). Би поразмыслив сказал "Иа, сол калада мас коп екен" (Да, много в этом городе пьяниц). так и нарекли они этот город - "Мас коп" что преобразовалось в Москов, Московия, Москва.. Киргизы как понятно издавна кочевали в Южной Сибири. В 17 веке туда переехало много русских семей, коие убегали от царского гнета. Русские спросили у киргизов "Есть ли у вас ненужное место для того, чтобы мы построили себе там деревню?" Гостеприимные киргизы закивали: "Иа! Орын бар, орын бар" (Есть у нас место) Русские обрадовавшись и построив деревню так и назвали её - Орынбар. Деревня разрослась, стала городом, и когда туда приехала царские чиновники, они скорректировали название на европейский лад - Оренбург... Давным-давно, когда ккиргизы еще не были мореплавателями, решили они открыть новую землю. Построили корабль, дошли до моря, оттолкнул от берега, и главный киргиз сказал: "Алга!" Но первой же волной корабль прибило к берегу. Киргизы не растерялись, вновь спустили свое судно на воду и вожак опять провозгласил: "Алга!!" Но вдруг им не повезло - корабль выкинуло на пляж так же, как и в первый раз. И когда судно было спущено на воду в третий раз, главный киргиз сказал: "Алга, акен аузын!!!" - и корабль поплыл. Первый остров, который открыли киргизы, до сих пор называется Окинава... Высадившись на этот остров гордые киргизы-мореплаватели увидели небольших и желтых японцев. Увидев их, киргизы ужаснулись и воскликнули. "Ой-бай! Сумрай !! Аузына с...гейин !!" Таким вот образом в японской истории появились легендарные самураи и сёгуны... Хотелось бы предполагать, что другие исследователи внесут свой посильный вклад в поиски утерянных отпечатков киргизского языка на глобусе. из цикла "Киргизские народные игры" Баскетбол - народная киргизская игра. Название происходит от трех киргизских глаголов в повелительном наклонении: бас - наступай, дави. кет - уходи, отходи бол - будь, давай. Воистину, мудрое название! Достаточно лаконичное – концепция игры отражена в трех словах!
-
 1
1
-
-
Вы же не думаете, что казахским найманам, жалайырам, коныратам, торе-чингизидам и другим, кыпчакская история интереснее своей? Я тоже так не думаю

Некоторые монгольские роды тоже произошли от других народов: казахи (хасаг), башкиры, киргизы, тангуты, осетины, эвенки и т.д. Но мы не трогаем истории других стран.
Древний казах
http://pikabu.ru/story/pro_drevnikh_kazakhov_2331305
http://www.kazakh.ru/talk/mmess.phtml?idt=130153
http://forum-eurasica.ru/index.php?/topic/3961-anekdoty-o-kazakhakh/page-2
Древние казахи были высокими голубоглазыми блондинами. И не потому, что быть маленьким узкоглазым брюнетом как-то не в кайф, а потому что все знают, что настоящие казахи – это голубоглазые блондины. Легенда гласит – однажды в древние времена в один аул, в котором жили узкоглазые и черноволосые казахи, пришли голубоглазые блондины, и тогда все жители аула вышли на улицу и сказали блондинам – Вы, блондины, и есть настоящие казахи, а мы – ненастоящие. А блондины спросили ненастоящих казахов – А почему это мы – настоящие казахи? И тогда ненастоящие казахи ответили блондинам – А потому что настоящие казахи – голубоглазые блондины. Вот такая вот древняя легенда.
А вот древние узбеки, наверное, не были двухметровыми блондинами как древние казахи, потому что все казахи знают, что раньше казахи были голубоглазыми блондинами, а вот про древних узбеков казахи ничего не знают.
Однажды знаменитый Христофор Колумб, зная об исключительной честности и трудолюбии древних казахов, позвал их с собой открывать новый континент Америку. И быть бы древним казахам первооткрывателями Америки, но они опоздали на два часа, и корабли Христофора Колумба уплыли без древних казахов.
Кушали древние казахи исключительно бешбармак, потому что в те далёкие времена древние уйгуры ещё не придумали лагман, а древние узбеки не придумали плов. Получается, что бешбармак – это самое древнее блюдо, а древние казахи первыми в мире начали есть бешбармак! Некоторые спрашивают, а что же тогда ели древние узбеки и древние уйгуры в те далёкие времена, когда древние казахи ели бешбармак. Так как лагмана и плова тогда ещё не было, то можно предположить, что древние уйгуры и древние узбеки не ели ничего.
Однажды знаменитый Христофор Колумб рассказал знаменитому Фернану Магеллану о знаменитой древнеказахской пунктуальности. И потому, когда знаменитый Фернан Магеллан предложил древним казахам пересечь Тихий океан, он специально отложил выход кораблей на два часа. Но древние казахи опоздали уже на четыре часа, и корабли Фернана Магеллана уплыли без древних казахов.
Говорили древние казахи, естественно, на шумерском языке. И все географические названия в древнем Казахстане были, конечно же, только шумерские. Но потом древние казахи стали говорить на древнетюркском языке, и специальная древнеказахская комиссия все древнешумерские названия переименовала в древнетюркские. И, на всякий случай, оставила только улицу Фурманова.
Однажды древние казахи украли где-то древнюю китайскую рукопись, в которой был список 50-ти развитых стран древнего мира. Удивились тогда древние казахи, что в этом списке нет страны древних казахов, и решили, что к 30 году обязательно нужно в этот список войти. И стали древние казахи развивать с этой целью самую развитую в Центральной Азии финансовую систему. А так как письменности у древних казахов не было, то самая развитая в Центральной Азии банковская система строилась на «отвечаю». Казахское «отвечаю» стоило в древнем мире дорого, за один казахский «отвечаю» некоторые дураки давали десять баранов.
В самой середине древнеказахской земли существовал первый в мире космодром. И первые в мире космические корабли уходили в космос без космонавтов не потому, что так было задумано, а потому что древнеказахские космонавты постоянно опаздывали к отлёту на два часа.
Когда Христофор Колумб позвал древних казахов во второе своё плаванье в Америку, то древние казахи с радостью согласились. И, конечно же, все думают, что они опоздали на два часа. Но нет, в то время когда Колумб оплывал в Америку, у прото-киргизов случилась первая прото-революция, и древнеказахстанскую границу просто-напросто закрыли.
Древние казахи любили охоту и войну, а древние казашки просто любили. А ещё они не умели разговаривать, и поэтому любили молча. Как это происходило, все знают по фильму «Келiн». Примерно через тысячу лет древние казашки научились разговаривать, а ещё через тысячу лет они научились болтать по телефону. С тех пор казашки не только любят, но и ещё болтают по телефону.
Однажды древние казахи захотели купить водки и пошли в круглосуточный супермаркет. И опоздали на два часа. Некоторые могут спросить – как можно опоздать в круглосуточный супермаркет? Можно. Потому что спиртное в древнем Казахстане продавалось только до 23.00.
Ещё древние казахи любили танцевать народный танец Каражорга (музыка Константина Меладзе, слова Онегина Гаджикасымова). Этот танец был послан древним казахам из суверенного будущего с указанием – Хватит устраивать языческие пляски под Верку Сердючку и Юлдуз Усмонову, ну-ка собрались по десять тысяч и начали плясать древний казахский танец. А в далёком будущем, в отсутствии национальной идеологии, этот танец должен будет сконсолидировать казахов, потому что джунгаров к тому моменту уже не будет, а против русских или китайцев гнать всякую хрень будет не вполне многовекторно.
Однажды в одной древнеказахской семье родился мальчик Темуджин. Он, как и положено древнему казаху, был голубоглазым и рыжебородым. Точнее говоря, он был рыжеволосым, а когда стал рыжебородым, то назвался Чингисханом и пошёл воевать против древних казахов. Некоторые современные умники задаются вопросом – как же так, Темуджин был казахом и воевал против казахов. А вот не надо разным умникам задаваться глупыми вопросами. Загадочная у нас история.
Между прочим, древние казахи курили ещё за тысячу лет до того, как знаменитый Христофор Колумб привёз из Америки табак. Древнеказахские курильщики жили в низовьях Аспары, здесь же был основан первый в мире Дурь-Банк, куда за Дурь-кредитом приезжали гонцы даже из страны восходящего Солнцево. И великий генетик академик Вавилов, и великий селекционер Мичурин, и прочие растаманы каждый год в августе приезжали в Аспару собирать образцы дикорастущих трав.
Известное не только лингвистам чередование в тюркских языках букв «м» и «б» (например, курман-курбан, мейрам-байрам), позволяет предположить, что знаменитый ныне коктейль «Мохито» (правильнее «Бахито» или даже «Бахыто») был изобретён именно древними казахами. Впоследствии обязательный чуйский семилистник был заменён мятой, а вместо кусочков курдюка в коктейль стали класть лёд. Древние казахи хотели даже запатентовать рецепт «Бахито», но опоздали на два часа.
Предки всех современных казахов были ханами, беками, биями, султанами, ну, в крайнем случае, батырами или ханскими гвардейцами. В древности обычных казахов не было.
И в заключение скажу, что в современном Казахстане казахов-блондинов гораздо меньше, чем казашек-блондинок. Это означает, что в настоящее время настоящих казашек гораздо больше, чем настоящих казахов. Это могут подтвердить наблюдатели от ОБСЕ, но наблюдатели от ЕС не могут, потому что в ОБСЕ мы попали, а в ЕС опоздали на два часа.
Ну давай продолжай. У нас псевдоисториков , которые хотят свой народ возвеличить ,приписывая ему несуществующий черты и достижения, в достатке. -
-
История Тамерлана незначительно для монгольской истории.
-
 1
1
-
-
Этнические аспекты истории Центральной Азии: древность и средневековье.
Коновалов П. Б.
http://сувары.рф/ru/content/etnicheskie-aspekty-istorii-centralnoy-azii-drevnost-i-srednevekove
Этнические аспекты истории Центральной Азии: древность и средневековье. / Диссертация на соиск. уч. степени доктора исторических наук : 24. 00.02, 07.00.07. — Улан-Удэ, 2000. — 317 с.
Специальность: Историческая культурология
Источник: http://www.dissercat.com/content/etnicheskie-aspekty-istorii-tsentralnoi-azii-drevnost-i-srednevekove
Оглавление
Введение
Часть первая. Ранние этнокультурные образования в Центральной Азии и их контакты (динлинско-дунхуский период).
Глава 1. Этническая дифференциация и контакты древних культур Центральной Азии
Глава 2. Плиточные могилы и курганы-керексуры Монголии и Бурятии: проблема синтеза протокультур
Глава 3. К проблеме исторических корней Гэсэриады
Часть вторая. Суперэтнический культурогенез прото и ранних тюрко-монголов (период кочевых государственных образований от хунну до уйгуров)
Глава 4. Этнический аспект истории и культуры хунну
Глава 5. Происхождение и ранняя история хунну
Глава 6. К истокам этнической истории тюрков и монголов
Глава 7. О культе неба у хунну и монголов
Часть третья. Этноэволюция и этнотрансформация тюрко-монгольских племен: формирование средневековых монголов (татарско-монгольский период).
Глава 8. Корреляция средневековых археологических культур Байкальского региона и проблема историко-археологического синтеза
Глава 9. К историзму мифов о Бортэ-Чино и Эргунэ-Кун
Глава 10. Духовное освоение центральноазиатских ландшафтов и рождение экологической концепции Родины у древних монгольских и тюркских племён
...
Введение
Чтобы правильно освещать этническую историю Центральной (Внутренней) Азии, необходимо адекватно понимать и корректно объяснить своеобразные процессы межэтнического взаимодействия в динамичном мире кочевых племен этого региона.
В ситуации, когда конечным результатом сложного этноисторического развития явились формирование и утверждение на этой территории монгольских народов, постановка вопроса об этнических аспектах истории данного региона предполагает выработку исследователем исходной концептуальной схемы решения проблемы, обозначить свое отношение (понимание) к вопросу этногенеза монголов вообще и в Центральной Азии в частности. Автору предстоит выбрать одну из двух существующих в отечественной историографии концептуально-методологических позиций, с которых те или иные авторы пытаются разрабатывать проблему этногенеза и этнической истории монголов.
Согласно первой точке зрения средневековые монголы рассматриваются как выходцы с Амура, Приамурья, откуда они вышли в центральноазиатские степи лишь с X века, вытеснив тюрков. За два века они из народа с оседлым комплексным хозяйственно-культурным типом превратились в классических степных номадов. В соответствии с этой концепцией история Центральной Азии решается в парадигме полной смены этносов.
Позиция вторая заключается в том, что происхождение монгольских пародов невозможно рассматривать и понять в отрыве от истории контактировавших с ними на территории современной Монголии этносов, в первую очередь тюркских племен, сыгравших огромную роль в их судьбах. Во всех раннегосударственных образованиях кочевников, начиная от Хуннской империи до Киданьской шли этнические процессы с участием монголоязычных этносов, и все они (процессы) явились ступенями на пути складывания последних.
Стать на ту или иную из обозначенных позиций необходимо в силу того, что перед нами вопрос об этнических аспектах истории в рамках Центральной Азии, но не проблема этногенеза монголов вообще.
Последняя действительно не ограничивается рамками Центральной Азии, ее решение связано частично и с территорией Маньчжурии и Приамурья, т. е. с районом Дальнего Востока. Но обратившись к истории Центральной Азии, где окончательно сформировалось большинство монголоязычных этносов, носителей центральноазиатского культурного комплекса, мы должны отвлечься от дальневосточной историко-культурной области, где, в свою очередь, сформировались тунгусо-маньчжурские народы. А это означает, что поставленную задачу надо попытаться решить не на основе постулата миграционизма и полной смены в Центральной Азии тюрков монголами, а на основе постулиро вания идеи сосуществования и взаимодействия древних и средневековых этносов, т. е. решить в рамках парадигмы суперэтнического феномена данного региона.
Таким образом, предметом нашего исследования является этнический аспект длительного исторического процесса взаимодействия разноплеменного древнего и средневекового населения на территории Внутренней Азии, приведшего к утверждению там монгольской этнической общности. Это не этническая история монголов как таковая и тем более не этническая история Центральной Азии в целом, для чего потребовались бы иная постановка вопроса и иное построение работы.
Мы ставим проблему — показать роль монгольского этнического фактора в истории Центральной Азии и с этой точки зрения посмотреть на сущность кочевых государственных образований, на идентификацию некоторых важных для нашей темы этнонимов и политонимов. Основной целью автора, идеей всей диссертации является: проследить историю той части монгольских племен, чья история была интегрирована в этнополитический организм, подвержена этнотрансформационным процессам.
Объектом же нашего внимания является не история всех контактировавших этносов в систематическом историко-хронологическом изложении, а монгольские этносы, их устные и письменные исторические памятники, этническая генеалогия и памятники героического эпоса.
В соответствии с такой постановкой темы территориальные рамки исследования мы берем от Хингана на востоке до Алтая и Восточного Тяныпаня на западе и от Забайкалья (с Прибайкальем) и Саян на севере до Наньшаня (с Хухэнором) и Хуанхэ (верхнее и среднее течение) на юге. В указанных рамках рассматриваем или, по крайней мере, учитываем археологические памятники Монголии, Внутренней Монголии, Бурятии, Читинской и Иркутской областей, Тувинской и Горно-Алтайской республик, и частично Синьцзян-Уйгурского автономного района и Северного Китая. В этих же рамках оперируем данными письменных источников о древних и средневековых этносах.
Хронологические рамки исследования нами взяты в диапазоне от позднего бронзового века, карасукской эпохи по археологической периодизации, до периода образования Монгольской империи. В целом это длительный период приблизительно XIII в. до н. э. — XIII 7 в. н. э., в рамках которого рассматриваются археологические и этнографические реалии трех узловых моментов историческою процесса — карасукского времени, хуннского и тюркско-монгольского периодов.
Вышеназванная цель конкретизируется постановкой следующих задач (в порядке их решения в работе) : 1) дать по-возможности этническую атрибуцию древних и средневековых археологических памятников и культур; 2) проследить на археологическом материале контакты разных этнокультур эпохи сложения ранних этнических общностей (поздний бронзовый и ранний железный века), выявить в них общие черты и элементы взаимной интеграции, а также реконструировать характер взаимоотношений контактировавших этнических массивов; 3) исследовать происхождение и раннюю историю хунну и выявить их прамонгольские и пратюркские связи; 4) проанализировать в этническом аспекте археологическую культуру хунну эпохи их великодержавия и дать ей соответствующую историко-зтнологическую интерпретацию; 5) проследить этнокультурную и этнополитическую преемственность кочевых государственных образований Центральной Азии от хунну до монголов; 6) дать анализ средневековых археологических комплексов Байкальского региона и прилегающих территорий Монголии с целью выявления в них «монгольских» и «тюркских» черт, что дает возможность; 8) интерпретировать их в этноисторическом контексте.
Научная новизна предпринятого исследования состоит прежде всего, пожалуй, в самой постановке темы: объяснение этнического аспекта безусловно своеобразной истории кочевых народов Центральной Азии эпохи средневековья, характеризуемой многими исследователями как история суперэтнической общности. Новизна подхода к теме заключается как раз в углублении и конкретизации 8 понятия тюрко-монгольского суперэтноса, в исследовании межэтнической взаимопроницаемости и культурной нивелировки в рамках данного феномена, в попытке раскрыть механизм интеграции и последующей дифференциации тюркских и монгольских этносов. И как результат такого анализа — вычленить и проследить монгольскую линию этногенеза.
Методологический подход к проблеме этнической истории Центральной Азии сложился под влиянием трудов широкого круга отечественных и зарубежных этнологов, археологов, антропологов, филологов, востоковедов разных специальностей.
В рождении авторского взгляда на этногенез вообще и этническую историю монголов в частности имели значение, с одной стороны, труды антропологов, в особенности, теоретический вывод В. П. Алексеева о перманентности процесса этнообразования и «бесконечной дали этноса» (1982, 1986, 1989) (т. е. о стадиально-хронологической глубине понятия «этнос» в принципе), а также, с другой стороны, теории и гипотезы алтайского языкознания, отрицающие прежнюю теорию единого алтайского праязыка и объясняющие родство тюркских, монгольских и тунгусских языков на основе их схождения (сближения), а не расхождения из одного корня (Санжеев, 1965; Щербак, 1966; Клоусон, 1969; Рона-Таш, 1974 и др.)
В сложении нашей концепции центральноазиатского автохтонизма монгольского этногенеза и этнической истории на стадии формирования степной скотоводческой культуры на территории Монголии и Забайкалья (частично ареал древних и ранних монголов, как известно, выходит за пределы центральноазиатской степной ойкумены — в Приамурье и Маньчжурию, где они тесно контактировали с тунгусо-маньчжурскими этносами, имея с ними более древние, возможно генетические, связи) сыграли свою роль взгляды Н. Я. Бичурина и его сторонников, в том числе монгольских учёных — Н. Ишжамца, 1974; Н. Сэр-Оджава, 1971: Ш. Вира, 1978; Г. Сухбаатара, 1971, 1980, 1992, а в конечном счете наша личная оценка археологических культур региона.
Хотя этническая идентификация археологических памятников и культур всегда проблематична, только достаточно широкий взгляд на историческую географию и учет данных других научных дисциплин — лингвистики, эпосоведения, религиеведения, этнической генеалогии, письменно-исторических источников могут помочь оценить этнокультурную принадлежность археологических комплексов. На основе такого комплексного метода и предлагается подойти к решению поставленной в диссертации цели.
Наша исходная посылка состоит в обосновании тезиса о том, что монголы как этносы с присущей им культурой формировались на территории Центральной Азии, но их этноэволюция временами была сопряжена с явлениями этнотрансформации в духе суперэтнического культурного феномена.
Особо значимыми при окончательной выработке теоретико-методологического подхода автора к разрабатываемой теме были теоретические труды этнологов (Ю. В. Бромлей, 1973, 1981, 1983; С. А. Токарев, 1964; С. А. Арутюнов, 1982, 1987; В. И. Козлов, 1982; М. В. Крюков, 1976, 1982; H. H. и H. A. Чебоксаровы, 1985; С. И. Брук и H. H. Чебоксаров, 1978; Л. Е. Куббель, 1982; Л. Н. Гумилев, 1989 и др.), в которых разрабатываются различные аспекты теории этноса, этнических общностей, этногенеза и этнической истории. Из теоретического арсенала этнологии безусловно привлекательной для нашей темы является идея этнотрансформации — этноэволюции.
Источниковая база диссертации. В основу диссертации положен археологический материал, к которому приложены данные фольклора (генеалогические легенды, тотемические мифы), героического эпоса, религиозных воззрений монголоязычных народов, а также письменные источники китайской и монгольской историографии.
Археологический материал. По периоду поздней бронзы и раннего железа существует значительное количество публикаций в виде монографий и статей о памятниках культуры плиточных могил, среди которых имеются и введенные в научный оборот автором настоящей диссертации. В ряду основных исследователей культуры плиточных могил назовем Г. П. Сосновского, А. П. Окладникова, H. H. Дикова, Ю. С. Гришина, В. В. Волкова, А. Д. Цыбиктарова, Э. А. Новгородову и монгольских ученых Д. Наваана, Д. Эрдэнэбаатара и Г. Санжмятава.
Невелик по объему, но вполне представителен для использования материал по курганным памятникам позднего бронзового века Монголии и Бурятии — керексурам и оленным камням. Имеются публикации Ю. Д. Талько-Грынцсвича, Г. И. Боровко, А. П. Окладникова, В. В. Волкова, Ю. С. Худякова, А. Д. Цыбиктарова, П. Б. Коновалова, C. B. Данилова, Д. Наваана и Г. Санжмятава.
Огромная литература существует по археологическим памятникам и культуре хунну. В числе исследователей, внесших большой вклад в археологию хунну, следует назвать: Ю. Д. Талько-Грынцевича, П. К. Козлова, Г. П. Сосновского, A. B. Давыдову, С. С. Миняева, С. И. Руденко, А. Н. Бернштама, C. B. Данилова, монгольских исследователей — Ц. Доржсурэна, X. Пэрлээ, Д. Цэвэндоржа, Д. Наваана, венгерского ученого И. Эрдэли. Не один десяток лет посвятил исследованию хуннских памятников в Бурятии и Монголии и автор диссертации, опубликовавший несколько десятков работ и ныне работающий над новыми материалами из десятилетних раскопок в Монголии в 1981—1991 гг.
В диссертации использованы материалы по хунну из китайской археологической литературы: во-первых, публикации самих китайских авторов на русском языке в российских изданиях (работы У Энь, 1988; У Энь, Чжун Кань и Ли Цзиньцзэн, 1988, 1990), а также перевод с китайского оригинала работы Тянь Гуаньцзиня (1983); во-вторых, публикации российских археологов по материалам из Северного Китая, Внутренней Монглии (работы С. С. Миняева, С. А. Комиссарова, A. B. Варенова, Ю. С. Худякова, Н. В. Полосьмак и Ю. А. Заднепровского).
Если материалы из Северного Китая и Внутренней Монголии дают возможность получить представление о генезисе ранних хунну, то материалы из Монголии и Забайкалья позволяют нам изучить процесс окончательного формирования их культуры.
И, наконец, третья группа археологических источников относится к периоду развитого средневековья — приблизительно VIII — XIII вв н. э. Происходят они, главным образом, из Забайкалья, Предбайкалья, частично из Монголии. Исследователями средневековых памятников в указанных районах, чьи материалы (публикации) использованы и учтены в диссертации, являются: Ю. Д. Талько-Грынцевич, Б. Э. Петри, Г. Ф. Дебиц, Г. П. Сосновский, А. П. Окладников, Е. Ф. Седякина, Е. А. Хамзина, H. H. Мамонова, В. В. Свинин, И. В. Асеев, И. И. Кириллов, Е. В. Ковычев, М. А. Зайцев, В. Ф. Немеров, Ю. С. Гришин, П. Б. Коновалов, Л. Г. Ивашина, Н. В. Именохоев, Б. Б. Дашибалов и C. B. Данилов. В Монголии средневековые памятники исследовались Н. Сэр-Оджавом, Д. Навааном, Д. Баяром, Г. Мэнэсом и др.
Автором диссертации средневековые погребения исследованы в ряде мест Бурятии и Монголии (см. Коновалов, 1989; Коновалов, Данилов, 1981; Коновалов, Именохоев, 1982; Именохоев, Коновалов, 1985; Коновалов, Данилов, Именохоев, 1989; материалы раскопок автора в Монголии не изданы, но учтены в работе).
В целом, археологические источники средневекового периода дают представление о народонаселении северной окраины Центральной Азии, точнее, ее северо-восточной части, и возможность судить о характере происходивших там этнокультурных процессов.
Генеалогические легенды и тотемические культы. К ним относятся взятые из китайских, монгольских и персидских исторических сочинений, а также из известий греческих и латинских авторов, генеалогические мифы древних и средневековых племен и родов Центральной Азии, равно как и современных монгольских и тюркских народов (бурят, якутов), бытующие и поныне. Перечислим в хронологическом порядке:
• известия о племенах цюань-жун (в переводе: «собаки-жуны») и гуань-жун (с тотемами волка и оленя);
• известия о племенах ухуань, сяньби и муюн — почитателях тотема собаки;
• легенда о Лани, показавшей гуннам дорогу (вброд) через Меотиду (Азовский лиман);
• легенда о тюркском предке Белом Олене с золотыми рогами;
• тукюэская легенда в двух вариантах о праматери-волчице;
• телеская легенда о прародителе-волке;
• легенда о прародителе теле-уйгуров (токуз-огузов) Буку-хане (Огуз-хане);
• легенда о мифическом предке булагат — бурятского племени Буха-нойоне и якутском Буга-божестве;
• миф о прародителях царского рода монголов Бортэ-Чино и Гуа-Марал.
Эти мифы и легенды в сопоставлении с археологическими данными дают возможность судить об очень глубоких этнических корнях их создателей.
Материалы о религиозных воззрениях тюркских и монгольских народов. Из громадного комплекса тюрко-монгольского (центрально-азиатского) шаманизма в диссертации использованы лишь несколько сюжетов, свидетельствующих, с одной стороны, об отдаленных культурных связях и заимствованиях, с другой, на наш взгляд, о глубокой идеологической общности ранних тюркских и монгольских этносов, сложившейся на одном общем ландшафтном пространстве:
• пантеон высших небесных божеств бурято-монгольского шаманизма — 99 тэнгриев, разделенных на два враждующих лагеря — западных и восточных;
• культ Неба-отца и Земли-матери (бурят-монгольское Ундэр Тэнгри эсэгэ мэни — Улгэн дэлхэй эхэ мэни, алтайское Ульгсн -Божество верхнего мира и Умай — Божество Земли).
• ландшафтный культ Земли-Воды (бурят-монгольские Газар-УЬан, древнетюркское Йер-Су);
• культ гор — общий для тюркских и монгольских народов.
Материалы эпоса «Гэсэр». Из величайшего эпоса Центральной Азии нами использованы: сюжет так называемого «небесного пролога», рисующего картину противостояния 55 Западных Тэнгриев и 44 Восточных Тэнгриев, и ряд других сюжетов, отражающих реалии очень древних этапов человеческой истории вообще, такие как освоение металла — бронзы, железа, культ меча, борьбы животных, борьбы человека с чудовищами и т. п. Подобные реалии, с нашей точки зрения, вполне сопоставимы с археологическими материалами эпохи бронзы и раннего железного веков, со «звериным стилем» евразийских кочевников и этническими контактами и взаимной враждой племен.
Письменные источники. Использованы:
• «Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена» (Бичурин, 4. 1, 2. 1950);
• «Китайские известия о народах Южной Сибири, Центральной Азии и Дальнего Востока» (Кюнер, 1961);
• «Материалы по истории древних кочевых народов группы дунху». Введение, перевод, комментарии B. C. Таскина (1984);
• «Материалы по истории сюнну». Предисловие, перевод и примечания B. C. Таскина (1968; 1973);
• «Шань Хай цзин» — «Книга гор и морей» (в переводе Э. М. Яншиной называется «Каталог гор и морей», 1977), содержащий материалы по древнекитайским мифам;
• «Юян Цзясу» — «Юянская смесь» и «Тайпин гуаньцзи» -»Пространные записки, составленные в годы Тайпин» — китайские сочинения (используются по работе Ю. А. Зуева) (см.: Абдурахманов, 1979).
• «Монголын нууц товчоо» — «Тайная история монголов» или «Сокровенное сказание»;
• «Алтан тобчи» Лубсан Данзана (см.: Лубсан Данзан, 1973; монг. изд.: Лувсанданзан, 1990);
• «Алтан тобчи» Мэргэн Гэгэна (см. Балданжапов,1970);
• «Сборник летописей» Рашид-ад-дина т. 1, кн. 1, 2 (1952,);
• «Родословное древо тюрков» Абуль-Гази (1906);
• «Легендарная рассказы о доисторических временах уйгуров» (глава из книги В. В. Радлова, 1893);
• Мифологический словарь (1990).
2. Краткий историографический анализ проблемы
Думается, для нашей темы нет необходимости давать полный систематический обзор литературы. Для краткого историографического анализа трудов, связанных с нашей темой, целесообразно сгруппировать их следующим образом:
1) археологические работы, в которых наряду с источниковедческой проработкой материала дается его историческая интерпретация, иногда с использованием палеоантропологических данных, и этническая атрибуция (это могут быть как монографии, так и статьи);
2) сборники статей или сборники тезисов, посвященные этнокультурным процессам, этногенезу и этнической истории народов Центральной Азии, Южной Сибири, Юго-Восточной Сибири или вообще Сибири, в том числе специально посвященные, например, тюркоязычным народам, в которых указанная тема разрабатывается, в силу специфики жанра, фрагментарно, хотя в той или иной степени комплексно;
3) монографические труды, посвященные проблемам этногенеза отдельных народов интересующего нас региона, их насчитывается немного: отнюдь не все народы или их подразделения удостоились внимания исследователей в этом плане.
Однако, как уже сказано выше, мы не ставим задачу представить сколько-нибудь полный обзор литературы по указанным категориям, но предлагаем краткий историографический анализ некоторых трудов отечественных и зарубежных авторов, причем не только монографических, но и статей.
Сообразно логике построения нашей работы анализ удобно начать с восточного ареала Центральной Азии. Здесь в эпоху позднего бронзового и раннего железного веков имеем обширный по занимаемой территории и многочисленный по своим памятникам археологический комплекс, называемый культурой плиточных могил. Говоря о «восточном ареале» Центральной Азии, мы имеем в виду прежде всего область возникновения и формирования данной культуры и наибольшего сосредоточения памятников в средней и восточной части Монголии вместе с Забайкальем (в России) и Внутренней Монголией (в КНР), хотя за многовековой период своего существования население плиточных могил распространилось вплоть до Западной Монголии; в меридиональном направлении область распространения плиточных могил простирается от Прибайкалья до Наньшаня.
Первые попытки этнокультурного определения населения плиточных могил были сделаны в духе сопоставления с хуннами. А. П. Окладников (1955, 1956) не усматривал этнической связи между культурами хунну и плиточных могил*, зато отмечал наследие культуры плиточных могил в орнаменте ольхонских бурят (1954).
Конкретно и однозначно по вопросу этнической принадлежности населения плиточных могил высказался H. H. Диков (1958), охарактеризовав его как предположительно тюркское (правильнее надо: прототюркское или пратюркское — П. К.), при этом он также отрицал генетическую связь между хуннами и плиточниками.
Вслед за Диковым другое мнение выразил В. В. Волков (1967), отнеся культуру плиточных могил к предкам монгольских народов и ни та, ни другая культура в то время, как впрочем и сейчас, не получила какого-либо окончательного (по нашему мнению, надо говорить — однозначного) этнического определения считая ее одним из источников формирования культуры северных хуннов.
Точка зрения Волкова нашла поддержку монгольского археолога Д. Наваана, подкрепившего свое мнение большим количеством памятников, исследованных им на востоке Монголии (1974, 1974а, 1975). Наваан считал культуру плиточных могил исконно восточно-монгольской, уходящей своими корнями в тамошний неолит, а своими историческими судьбами связанной со сменившей ее хуннской.
Ю. С. Гришиным было сделано предположение об этнической неоднородности населения плиточных могил (1980) на основании того факта, что кроме подавляющей массы типичных плиточных могил с прямоугольной оградой значительно реже встречаются так называемые фигурные плиточные могилы. Как и Наваан в отношении восточномонгольских плиточных могил, Гришин усматривал истоки восточнозабайкальских могил в памятниках предшествующего периода позднего неолита — ранней бронзы, а в отношении исторических судеб населения он предполагал возможность разных путей; на востоке Забайкалья потомки плиточников могли попасть в орбиту развития дунхуских племен и дать начало бурхотуйской культуре средневековья; (1975. — С. 105106); в Западном же Забайкалье они были ассимилированы (?) хуннами.
Вот, собственно, основные взгляды и мнения, которые сложились о культуре плиточных могил на вышсрассмотрснном этапе ее изучения. Кроме упомянутых исследователей данной культуре уделяли внимание многие авторы — C. B. Киселев, М. ГТ. Грязнов, Э. А. Новгородова, Н. Л. Членова, В. Е. Ларичев, И. И. Кириллов и другие, большинство их признавало ее однородность, но каждый, вероятно, оставлял для себя открытым вопрос об этнической атрибуции или симпатизировал какой-либо одной из точек зрения — тюркизма или монголизма.
Завершающим на сегодняшний день этапом изучения культуры плиточных могил является монография А. Д. Цыбиктарова (1998), в которой автор на основе новых своих исследований обобщил все имеющиеся материалы, представил более полную, с учетом современных достижений археологии смежных территорий и народов, характеристику этой культуры.
Во-первых, Цыбиктаров предложил новую, по сравнению с прежней разноречивой, непомерно растянутой, более конкретную и твердую датировку культуры карасукско-раннескифским временем от XIII в. до н. э. по VI в. до н. э. (1998. — С. 88—106)
Во-вторых, наиболее полно обосновал местные истоки формирования культуры на базе памятников поздненеолитического и раннебронзового периодов Забайкалья и Монголии, подкрепив тем самым аналогичные предположения вышеупомянутых исследователей (Д. Наваана и Ю. С. Гришина) (1998. — С. 157—160)
В-третьих, подтвердил мнение об этнокультурном единстве погребальных комплексов самих плиточных могил, присовокупив к этому единству фигурные могилы и погребения дворцовской культуры Восточного Забайкалья, но вопросы этнической атрибуции и исторических судеб населения он оставил открытыми, в том числе и вопрос о его связи с культурой хунну, безотносительно к этнической дефиниции той и другой (там же).
И наконец, в-четвертых, Цыбиктаров затронул и возвел в важную проблему вопрос о соотношении плиточных могил и керексуров на территории Монголии и Забайкалья (см. также: 1995. -С. 37-46).
Таким образом, все отмеченные нами результаты исследования культуры плиточных могил, вытекающие из работ Цыбиктарова, имеют прямое отношение к теме нашей диссертации.
Как новые знания о культуре, так и возникшие нерешенные вопросы одинаково инициируют поставленную нами проблему этнических аспектов древней истории Центральной Азии. Особенно это относится к вопросу о соотношении плиточных могил и курганов-керексуров, поднятому нами в своих прежних публикациях, (см.: Коновалов, 1983, 1988, 1990 и др.)
Дело в том, что курганы-керексуры — это выдающиеся памятники археологии Центральной Азии, за которыми скрывается столь же крупная по своей территории и количеству памятников археологическая культура (или этнокультурная общность), вступившая в тесный контакт с культурой плиточных могил. И именно контакты этих двух культур, представляющих крупные этнические массивы, и их результаты занимают ключевое, в полном смысле этого слова, место в нашей диссертации. Об этом подробно будет сказано во второй главе, где кроме сюжетов взаимоотношений этносов, оставивших эти памятники, большое внимание уделено характеристике керексуров, поскольку они были гораздо менее известны, чем плиточные могилы, и изложенный там материал — в основном авторские исследования.
Здесь, в историографической части нашего труда есть, пожалуй, необходимость остановиться на вопросе изучения не столько монголо-забайкальских керексуров, сколько типологически сходных с ними, но не всегда и во всем идентичных им курганных памятников Саяно-Алтайского нагорья (в Туве и Горном Алтае). Понятно, что их этнокультурная характеристика будет иметь большое значение для нашей темы.
Впервые типологически выделил каменные курганы типа керексуров А. Д. Грач (1965. — С. 86-87; 1967) в Туве, назвав их монгун-тайгинскими, с которыми В. В. Волков (1967. — С. 46-47) сопоставлял исследуемые им в то время керексуры Западной Монголии. Впоследствии подобные сооружения с погребальной камерой в форме цисты под каменной насыпью кургана, а также в форме сруба или плиточного ящика в подкурганной яме А. Д. Грач классифицировал как курганы-керексуры «центрально-азиатского» типа (1980. — С. 9,11,20, 23, 37) в отличие от курганов им же названного «алтайского» типа с пазырыкским погребальным обрядом (см.: Маннай-оол, 1970. — С. 7).
В классификации типов погребальных сооружений уюкской культуры Тувы в книге X. Маннай-оола (1970) представлены все варианты курганов. Из них наиболее близки, если не сказать идентичны, к монгольско-забайкальским керексурам тувинские курганы типов Д1 и Е1 и, вероятно, также типов В и Г (там же, с. 1011, рис. 1), то есть те, которые А. Д. Грач называл монгун-тайгинскими.
Среди исследователей скифского периода Тувы не сложилось единого мнения по культурно-типологической классификации памятников. Если все только что упомянутые типы и варианты погребальных сооружений Л. Р. Кызласовым и X. Маннай-оолом (1970) были объединены в одну культуру под названием уюкская, а С. И. Вайнштейн назвал ее казылганской, то А. Д. Грач разделил весь этот комплекс на три части, из которых одна определена им как монгун-тайгинский тип курганов доскифского времени, две — как архсологические культуры: алды-бсльская ( раннсскифская) и саглынская ( позднескифская).
Следует отметить, что из тувинских курганов пока лишь монгун-тайгинский тип обнаруживает, по мнению В. В. Волкова, (1967. — С. 46-47), наиболее близкую аналогию монгольским керексурам карасукско-скифского времени. В книге Л. Р. Кызласова «Древняя Тува» (1979) показаны результаты раскопок таких курганов, отнесенных им к уюкской культуре. Захоронения в цисте, со скорченными костяками, имеют инвентарь раннескифского времени (УП-У1 вв . до н. э.), наиболее близки по шлребальному обряду и материальной культуре к захороненияим в кургане Аржан.
Эти и другие варианты подкурганных захоронений в каменных ящиках или срубах в дальнейшем позднескифском периоде заменяются семейно-коллективными усыпальницами. Это, по мнению Кызласова, не смена культур, а «отражение определенных общественно-экономических и ритуальных сдвигов». Этим замечанием он объясняет свою критику А. Д. Грача за то, что тот выделяет в Туве несколько культур скифского времени (см. выше) вместо одной. Однако трудно сказать, чем отличается его следующий вывод «Аржанская этническая группа была сакской по своему этническому происхождению и составляла в Туве аристократический династийный род, господствующий над другими этническими группами, входящими в уюкский племенной союз» (Кызласов, 1979. — С. 39) от представлений критикуемого им Грача об этнической картине в Туве того периода. Ведь у обоих авторов речь идет о существовании нескольких этнических группировок, «различающихся особенностями погребальных сооружений и обрядов» и изменяющихся во времени.
Однако остается неясным, какого же таксономического уровня эти этнические различия предполагаемых групп, кого они именно представляли собой. А. Д. Грач писал об «исконной принадлежности алды-бельцев и саглынцев к древнеиранской степной ойкумене (1980. — С. 95).
Л. Р. Кызласов отмечал, что конструктивные особенности кургана Аржан восходят к дандыбай-бегазынским погребальным сооружениям саков и что последние — несомненные предшественники Аржана. А так как дандыбай-бегазынских памятников на территории Тувы нет, он полагал, что люди, погребенные в кургане Аржан и соорудившие его, были пришельцами с запада из центральноказахстанских степей (1979. — С. 35)
Об этническом и физическом облике подвластного сакскому аристократическому роду населения можно судить по данным палеоантропологии. Со ссылкой на работы В. П. Алексеева вышеназванные археологи констатируют и антропологическую неоднородность населения Тувы скифского периода. Более конкретно пишет об этом X. Маннай-оол (1970. — С. 106) :». на территории Тувы в основном жили люди смешанного европеоидно-монголоидного типа с преобладанием европеоидных черт. Однако различие в устройстве погребальных сооружений и курганов, также находки чистых европеоидов и монголоидов в уюкских погребениях говорят о неоднородности населения.» (подчеркнуто мной — П. К.); и далее:». во вторую этнически обособленную группу входили люди, оставившие курганы с кольцами или квадратными оградами. Они по-видимому имели ближайшую родственную связь с племенами Монголии, так как именно эти типы погребальных сооружений наиболее широко распространены на ее территории. На эту связь указывают также и оленные камни» (там же).
По данным Маннай-оола в Туве известно более двух десятков оленных камней. Их исследователи связывают их с курганами уюкской культуры (стоят непосредственно у курганов, но нередко и отдельно, одиночно). Обозревая хорошо известные факты широкого распространения оленных камней Евразии от Монголии до Балкан, Л. Р. Кызласов предполагает, что распространение ранних оленных камней так далеко на запад связано с миграцией в предскифское время какой-то этнической группы из Южной Сибири или Западной Монголии, что вероятнее всего это были носители карасукских традиций в материальной культуре, которые в Центральном Казахстане оставили не только оленные камни, но и погребальные памятники дандыбай-бегазынской культуры (1978. — С. 25—26).
Таким образом, здесь признается факт хронологического приоритета и исхода ранних оленных камней также и из Монголии, где связь их с монгольскими керексурами несомненна (во второй главе нашей работы см. подробно о керексурах Монголии и Забайкалья и там затрагивается вопрос о судьбах его населения, отчасти причины такой миграции).
Что касается алтайских керексуров и оленных камней, то они мало исследованы, что и отмечает В. Д. Кубарев, одни из немногих исследователей этих памятников, в своей книге «Древние изваяния Алтая (оленные камни) « (1979). В Горном Алтае им обследовано замечательное святилище на р. Юстыд, состоящее из скопления оленных камней и керексуров. Последние он считает культовыми памятниками (не погребениями) ввиду того, что под курганами обнаружены лишь зольные пятна и кости животных. Аналогичные результаты получены им и на р. Уландрык, а также Д. Г. Савиновым при раскопках керексуров на р. Барбургазы (Кубарев, 1979. — С. 3638).
Поддержку своего мнения о том, что исследованные керексуры являются культовыми сооружениями, В. Д. Кубарев находит в раскопанном А. Д. Грачом скифском кургане Улуг-Хорум, названном «Храмом солнца», т. е. памятником солярного культа (1979. — С. 37).
По вопросу датировки алтайских керексуров и оленных камней он, не приводя каких-либо конкретных данных и ориентируясь на сложившиеся среди некоторых исследователей мнение, пишет:». те и другие сооружены, вероятно, как и многие центрально-азиатские керексуры, в эпоху бронзы. Возможно, что древняя местная традиция воздвигать керексуры оставалась неизменной в скифское время и даже сохранилась вплоть до гунно-сарматской эпохи.» (там же, С. 38)
Как было сказано, мы специально уделили столько внимания вопросам изучения южносибирских керексуров для того, чтобы разобраться в их этнокультурной характеристике, поскольку традиционно было принято соотносить их с керексурами Монголии и Забайкалья. В результате анализа можно сделать следующие заключения: во-первых, они плохо исследованы в целом; во-вторых, они разнообразны как в хронологическом срезе (изменялись во времени), так и в территориальном плане; в-третьих, они не совсем идентичны монголо-забайкальским; и в-четвертых, наибольшую близость к последним можно отметить, пожалуй, прежде всего у самых ранних курганов — тех, которые были названы в свое время «монгун-тайгинского типа» (в «цистах, на горизонте, без вещей»).
Изложенным выводам не противоречило наше предварительное представление о соотношении забайкальско-монгольских керексуров с саяно-алтайскими, когда мной была предложена тезисная публикация под названием «Культура курганов-керексуров Центральной Азии» (1987), а в последующих работах (1988, 1990, 1992а, б) под этой культурой я имел в виду лишь знакомые мне керексуры Забайкалья и Монголии, которые склонен был выделять в особую группу или вариант.
Между тем, имеется обстоятельная большая статья Ю. С. Худякова (1987), посвященная керексурам и оленным камням, в которой автор впервые в литературе систематизирует имеющиеся данные по всем керексурам Центральной Азии, классифицирует их по внешним формам, размерам, коррелирует с данными об оленных камнях, дает свою, помимо существующих, классификацию последних на всей указанной территории и, наконец, весь этот материал признает единокультурным комплексом, который и предложил назвать культурой керексуров и оленных камней. Районом возникновения этой культуры Худяков предполагает Западную Монголию, откуда она могла распространиться по разным направлениям — в Минусинскую котловину, Забайкалье и бассейн Хуанхэ.
Признавая статью Ю. С. Худякова исключительно ценным обобщением, созвучным моему представлению о культуре курганов-керексуров, но намного дополнившим его, считаю необходимым в дальнейшем обратить особое внимание на своеобразие монголо-забайкальских керексуров в контексте важной проблемы этнической идентификации.
История хунну была и остается одной из узловых проблем кочевниковедения Евразии. Одним из главных в этом узле является вопрос об этнической характеристике хунну и созданного ими политического объединения. Данный вопрос стоит в центре внимания на протяжении всей истории изучения хунну и, к сожалению, остается нерешенным по сегодняшний день.
Изучение истории кочевых народов Центральной Азии начинается с китайских исторических источников. Китай с глубокой древности развивался в тесной связи с окружавшими его «варварскими» племенами, и сведения о них содержатся уже в самых ранних памятниках письменности — иньских гадательных костях и чжоуских надписях на бронзе. Позднее появились более подробные известия о многочисленных соседях древних китайцев.
Основателем хуннологии и вообще науки о кочевых народах Центральной Азии можно считать автора «Исторических записок» («Ши-цзи») Сыма Цзяня, жившего во II в. до н. э. Последователем его был Бань Гу, написавший в конце I в. н. э. «Историю династии Хань» («Хань-шу»). Историком Фань Е в V в. н. э. написана «История поздней династии Хань» («Хоу Хань-шу»). Можно также назвать большое количество более поздних сочинений, в которых содержатся сведения о хунну и других кочевых народах — динлинах, тюрках, монголах и т. д.
Достоянием европейской, а затем и мировой науки китайские исторические сочинения стали с XVIII века благодаря переводам французских миссионеров, которые позволили Дегиню составить первую сводку истории кочевых народов — «Историю Хуннов, Тюрков, Монголов и прочих восточных Татаров до и после рождества Христова» (Париж, 1756-1758).
Продолжателями дела изучения истории хуннов и их связей с другими племенами Азии и Европы явилась огромная плеяда европейских и отечественных ученых, одно только перечисление имён которых составил бы длинный список. Как известно, возникли четыре основных теории происхождения хуннов и гуннов: монгольская, турецкая, финская и славянская. Главными представителями первой являются Г. Паллас, Тунман, Ф. Бергман, И. Шмидт, И. Бэр, Н. Я. Бичурин, К. Нейман, Х. Хоурс, отчасти Ам. Тьерри; представителями второй — А. Ремюза, Ю. Клапрот, Ф. Мюллер, Жирар де Риалль, В. В. Радлов, Н. Аристов, Ф. Хирт, И. Блейер, В. Панов, Л. Нидерле, Е. Паркер, Ф. Шварц, К. Риттер, Н. Толль. Сторонниками третьей теории являются: М. Кастрен, Коскинен, Вивьен де Сен-Мартен, Уйфальви, П. Услар. Мнения о славянской принадлежности европейских гуннов придерживались Д. Венелин, А. Вельтман, А. Погодин, Д. Иловайский. Были ученые, которые считали азиатских гуннов одного происхождения, а европейских — другого (например, тот же Ю. Клапрот).
Широкий обзор литературы, вышедшей до 1925 года, был сделан К. А. Иностранцевым в книге «Хунну и Гунны» (1926), содержание которой понятно из подзаголовка: «Разбор теорий о происхождении народа Хунну китайских летописей, о происхождении европейских Гуннов и о взаимных отношениях этих двух народов».
Этим замечательным сочинением отечественной историографии, в котором автор проделал обстоятельный анализ всех существовавших к тому времени концепций, завершается длительный период историографии хунну, который базируется исключительно на письменных источниках.
Так же огромен и, прямо скажем, бесконечен был бы перечень иностранных и отечественных исследователей, продолжавших и продолжающих изучать проблему истории кочевников и этническое взаимодействие между ними, невозможно взяться за их перечисление, не рискуя пропустить то или иное заслуживающее упоминания имя.
В настоящее время славянская теория изжила себя, финнская всё ещё, вероятно, имеет своих приверженцев, но эти две теории относятся к западным гуннам. Что касается восточных, центральноазиатских, хуннов, то проблема их этнической принадлежности обсуждается, в основном, в рамках двух теорий — монголизма и тюркизма.
Не так давно к этим теориям прибавились еще две точки зрения, не менее, если не сказать более, аргументировано высказанные в литературе. В 1962 г. Э. Пуллиблэнк опубликовал статью «Язык сюнну» (E. G. Pullyblank. The Hsiung-nu language. - AM. New series. Vol. IX, 1962, pt. 2, C. 239-262: русский перевод см.: Пуллиблэнк, 1986), в которой при лексическом сопоставлении хуннских слов с кетскими обнаружил совпадение и в то же время — фонологическое противоречие» алтайским языкам (1986, — С. 30). Аналогичную гипотезу выдвинул А. П. Дульзон (1968) в статье «Гунны и кеты», где список таких совпадений был расширен. Таким образом Пуллиблэнк и Дульзон выдвинули гипотезу о принадлежности хуннского языка к палеосибирским (через родство с кетским).
В 1973 г. Г. Дерфер в большой статье «О языке гуннов» (G. Doerfer. Zur Sprache der Hunnen. CAJ. vol. XVII. 1973, №1. — C. 1—50: русский перевод см.: Дерфер, 1986) опроверг версию о генетической связи хуннского и кетского языков и пришел к выводу о невозможности отнести язык хуннов к какому-либо из ныне существующих языков, а следовательно об отнесении его к языкам вымершим. «Является ли этот вывод неожиданным?»- вопрошает Дерфер в конце своей работы и отвечает: «Но мертвых языков больше, чем живых» (1986. — С. 113).
Следует ли растеряться от такого действительного неожиданного заключения авторитетного ученого-лингвиста? Нет, конечно. Исследователей, жаждущих истины, не приведет в уныние даже эпиграф, предпосланный Дерфером к своей работе: «А знать нам ничего, я вижу не дано! И этой думою все сердце сожжено». Гете. «Фауст». (Там же. — С. 71). Ведь отрицательный (против ожидаемого в каких-то пределах) вывод — это тоже результат, научная истина.
Г. Дерфер просит у читателя снисхождения за вынужденную краткость своего изложения, так как предложенная им гипотеза могла бы стать темой целой диссертации, которая все же привела бы к результатам «критического и негативного характера». «А кто же возьмется писать диссертацию, приводящую к негативным выводам?» — пишет он (Там же).
Надо полагать, такие диссертации еще появятся как со стороны лингвистов, так и со стороны прочих специалистов, а скорее — совместными усилиями тех и других; надо при этом надеяться и на то, что таковые будут не только с «отрицательными», но и с «положительными» решениями проблемы, хотя по мнению, например, С. С. Миняева (1998. — С. 79) вывод Дерфера будет определять состояние данного вопроса на многие годы вперед.
Археология значительно продвинула вперед хуннологию, как и всё кочевниковедение Центральной Азии и всей Евразии, но надо признать, что она так и не способствовала однозначному решению этнических аспектов истории и культуры хунну. Интересно, что первооткрыватель археологических памятников хунну Ю. Д. Талько-Грынцевич в конце XIX в. сделал предположение об их принадлежности к тюркским племенам (1905—1906), но оно было основано не на каких-то вещественных материалах, указывающих на этнос, а на знакомстве с известными к тому времени теориями, и ему оставалось лишь примкнуть к одной из них.
В дальнейшем археология намного обогатила наши знания о хунну, ввела в мир материальной культуры создателей первого кочевого государства, выявила неожиданно богатую высокоразвитую культуру: скотоводческую в своей основе, но с поселениями и городищами, крепостными сооружениями, с ремесленными центрами, со следами обработки металлов, кости, камня и дерева; изрядное количество импортных вещей — показатель активных экономических связей, богатое изобразительное искусство — показатель духовного мира, имеющего общую со скифо-сибирскими культурами мировоззренческую основу.
Археологическая культура хунну на территории Монголии и Забайкалья периода империи оценивается как монолитная и оригинальная, в целом отличная от предшествующих и последующих культур и памятников, что на первый взгляд, по суммарной оценке, не позволяет исследователям увидеть и решить вопросы её генетических связей и исторического наследия в местных культурах. Но в ходе накопления материалов, с выявлением новых памятников и культур на территории Южной Сибири, Забайкалья и Монголии в них обнаруживается немало элементов хуннского наследия, а отдельные сопоставимые черты были отмечены ранее и в дохуннских культурах.
Подлинные же генетические связи и истоки формирования культуры хунну, по сравнению с прежними весьма общими представлениями о них по письменным источникам, стали проясняться за последние примерно два десятилетия уже по археологическим источникам с территории Китая, накапливаемым китайскими археологами, в исторической интерпретации которых принимают участие и российские.
Таким образом, резюмируя изучение простой и, казалось бы, ясной по своей формулировке проблемы происхождения и этнической принадлежности хунну, приходится констатировать ее достаточно сложный характер.
Под словом «происхождение» в данном случае нужно понимать прахуннские истоки, о которых априори, из письменных источников, было известно, что они находятся на юго-востоке центрально-азиатской ойкумены, на территории Китая, где они постепенно выявляются и археологически.
Вместе с тем, в литературе постоянно обсуждается вопрос если не о генетических связях, то во всяком случае о некоторых общих элементах в культурах хунну, с одной стороны, и плиточных могил с другой. Все это требует своего объяснения.
Понятие же «этническая принадлежность» в применении к хунну очень сложно. Очевидная монолитность (единообразие) культуры вступает в противоречие с господствующим представлением о полиэтническом характере хуннского объединения, который был присущ этой культуре, как теперь выясняется, с самого начала ее формирования на прахунской стадии.
В результате, возникает проблема решения этнических аспектов культуры хунну в целом.
Подытоживая наш краткий историографический анализ, можно прийти к следующим выводам.
1. Об этнических культурах в Центральной Азии исследователи уверенно начинают говорить с бронзового века, эпохи укрепления производящей экономики, возникновения металлургии и скотоводческого хозяйства.
2. О широкой экспансии индоевропейских и индоиранских этносов в западном ареале Центральной Азии вплоть до центральных районов Монголии и Забайкалья пишут, начиная с энеолита и продолжительностью до хуннского времени.
3. О культуре пратюркских и прамонгольских этносов на территории Монголии и Забайкалья говорят, начиная с конца бронзового и на протяжении раннего железного веков; при этом одну и ту же культуру — плиточных могил — относят одни к предкам тюрков, другие к предкам монголов; лишь немногие формирование тюркской культуры склонны связывать с позднескифскими, в частности, пазырыкскими памятниками Алтая.
4. Мнения об этнической принадлежности культуры хунну делятся не только между сторонниками двух точек зрения — тюркизма и монголизма, но и высказывается точка зрения связей ее с предками кетов и даже о неизвестной нам языковой принадлежности (языку, вероятно, вымершему).
5. Что касается других государственных образований кочевников послехуннского времени, то относительно сяньби и жужаней существует единогласное мнение о их монголоязычности; относительно же тюркских и уйгурского каганатов — о их тюркоязычности. Причем, большинство исследователей, даже признавая политическую (династийную) сущность указанных названий кочевых государств, склонно представлять себе историю последних как чередующуюся кардинальную смену этносов.
6. Как видим, если не все, то многое в этих тезисах спорно, а значит, этническая проблема истории Центральной Азии не решена.
Заключение
В заключительной части своей диссертации представляется целесообразным сделать обобщение и выводы по трем выделенным частям, составляющим основные этапы этнической истории исследуемого региона.
Первые две главы, взаимодополняющие друг друга, посвящены эпохе образования этнокультурных общностей на территории Центральной Азии. Если в первой главе на общем фоне диахронного обзора древних и средневековых культур, начиная с самых ранних проявлений дифференцирующих признаков, выделены два археологических комплекса периода поздней бронзы и раннего железа, оцениваемые нами как этнокультурные общности, вступившие в тесный продолжительный контакт между собой и вызвавшие вследствие этого стартовые импульсы для будущих этнических процессов, имевших далеко идущие последствия, то во второй главе нами специально рассмотрены эти две культуры палеометаллической эпохи Центральной Азии, подробно разобраны археологические данные, свидетельствующие о взаимоотношениях разнородных групп населения этих комплексов.
Данные, которыми мы пользуемся при оценке этнических контактов строителей курганов-керексуров и плиточных могил, следующие:
1) территориальное и топографическое совмещение этих типов сооружений;
2) наложение части плиточных могил на керексуры, т. е. факты археологической стратификации памятников;
3) оленные камни — первоначальные атрибуты культуры курганов-керексуров — впоследствии вторично были использованы населением плиточных могил в качестве строительного материала, а затем и как объект почитания.
Эти данные, с нашей точки зрения, достаточно ярки и убедительны, чтобы на их основе представить картину сложных коллизий сосуществования и взаимодействия древних этнических массивов. Результаты контактов нам представляются в виде некоего этнокультурного субстрата, представленного населением, достаточно разнородным, но в культурном отношении ставшим однообразным. Последнее обусловлено не только единством территории обитания и хозяйственно-культурного типа контактирующих этнических групп, но и возобладанием культурных черт одной из групп — полагаем, что ди~дили~динлинских этносов.
Мировоззрение и идеология той эпохи формирования ранних степных скотоводческих племен культуры курганов-керексуров и культуры плиточных могил и их общих потомков нашли свое отражение, как нам кажется, в героическом эпосе монгольских народов — Гэсэриаде, чему и посвящен следующий очерк «К проблеме исторических корней Гэсэриады». Тема Гэсэриады в данном контексте заслуживает более широкого и подробного исследования, особенно по части исторических реалий южных связей с тибетским «Гэсэром», но то, что подмечено нами уже теперь, несомненно, является реликтами очень древних эпох — периодов освоения человеком металлов и широкого распространения изделий из них, сыгравших огромную роль в жизни общества. В перекличке эпических образов и археологических материалов можно видеть отражение идеологий борьбы добра и зла, культа силы и ловкости, культа предков и героев, наконец, культа небесных светил и их земных символов. Изобразительное искусство ранних кочевников, в частности, скифо-сибирское искусство звериного стиля в его крайних восточных вариантах и эпические образы, и сюжеты героического эпоса кочевых народов, в том числе Гэсэриады, можно считать разными формами отражения одного и того же культурно-исторического явления, соотношения которых требуют дальнейшего исследования.
И, наконец, именно анализ общей археологической ситуации привел нас к мысли поддержать высказанную когда-то догадку (Цыбиков, 1981. — С. 171) о том, что так называемый небесный пролог эпоса «Гэсэр», рисующий ситуацию противопоставления и борьбы западных и восточных богов, имеет под собой этническую подоплеку, в смысле противостояния этносов. Предложенный вывод, теперь уже аргументированный нами дуализмом археологических комплексов, безусловно, рискован, не бесспорен, но заманчив, ибо почему же не предположить, что вошедший в эпос религиозный небесный пантеон мог быть мифологической проекцией вполне земных дел и страстей эпических предков создателей героических поэм.
Таким образом, в первой части нашей диссертации рассмотрено праэтническое состояние обитателей Центральной Азии, когда сложились крупные этнокультурные массивы разных по происхождению корней, связанных соответственно один с западным и другой с восточным ареалами центрально-азиатской ойкумены, а затем эти этносы вступили во всесторонние продолжительные этнокультурные связи на огромной территории контактной зоны и заложили начало синтеза протокультур, в полной мере реализовавшийся в дальнейшем, в новых исторических условиях.
Новые исторические условия — это историко-культурная обстановка, сложившаяся с появлением хунну в Центральной Азии. Ей посвящена вторая часть, в которой исследуется нами проблема этнической дефиниции хуннского историко-археологического комплекса. Начать эту тему пришлось традиционно — с обобщения существующих гипотез по вопросу этнической принадлежности хунну периода их великодержавия и авторской оценки современного состояния и возможностей решения данной проблемы. В главе об этническом аспекте истории и культуры хунну изложена точка зрения, согласно которой хуннское общество периода созданной ими номадической империи представляло собой новое этнополитическое образование, не поддающееся однозначному этническому определению. Культуру хунну, представленную единообразными археологическими памятниками на всей территории ее распространения, можно охарактеризовать как государственную суперэтническую, но сложившуюся еще до образования державы, вобрав и переработав в себе элементы культур разных этносов на юге Центральной Азии.
К этому краткому резюме сводится содержание четвертой главы. Только что сказанным, т. е. потребностью углубиться в прахуннское состояние, продиктовано место, отведенное следующей главе 5 «Происхождение и ранняя история хунну».
В данной главе мы предприняли анализ публикаций российских исследователей, изучивших доступную им китайскую литературу по вопросам происхождения и формирования ранних сюнну. При этом выясняется, что изучение поднятой проблемы, по археологическим материалам, находится на начальной стадии, и лишь в последние два десятилетия началось накопление материалов, и что среди китайских и российских ученых нет единого мнения в решении данной проблемы.
Ознакомившись с точками зрения отечественных ученых и опираясь на их исследования, мы приходим к мнению, что разность их взглядов на происхождение и формирование раннесюннуского археологического комплекса происходит из-за того, что эти исследователи непременно и, как правило, строго детализируют во времени и пространстве исторические процессы и явления, ищут, с одной стороны, заведомо конкретные археологические памятники среди некоторого их разнообразия, а с другой, — затрудняются признать в качестве протосюнну какой-либо этноним из множества этнических названий, представленных в китайских письменных источниках. Между тем, если подходить к делу иначе, с поправкой на только что сказанное, то, кажется, и не нужно будет много спорить.
Мы попытались изложить свою позицию, с которой можно интерпретировать этногенез хунну на стадии до ухода их в степи Монголии и создания империи. Если коротко сформулировать ее, то она сводится к следующему: в своих корнях сюнну произошли из группы восточных племен ху, южной Маньчжурии, где первоначально не различались ни дунху, ни хунну, но в результате вековых контактов этой этнической общности с другими группами этносов из числа жунов и ди (жун-ди) обособилась и выделилась хуннуская группа этносов, втянутая в западные связи и противостоявшая теперь своим прежним соплеменникам, которых китайские летописцы стали называть дунху. Произошло разделение прежде единой этнической общности на две ветви — дунхускую и хуннускую.
Таким образом, образование хуннуской ветви этносов обусловлено контактами и смешением между восточными ху, жунами и ди. Вот почему возможна следующая трактовка: к генезису хунну имеют отношение прежде всего памятники крайнего юга Маньчжурии, связанные с дунхуской группой племен, и памятники Ордоса, связанные с жундискими этносами. Смешавшиеся и ассимилировавшиеся с жунами и ди хунну перешли Гоби и возглавили также смешанные этносы северных степей Монголии.
Этим еще более усложняется проблема этнической характеристики населения хуннской державы, о чем мы писали выше и в чем состоит, между прочим, узловой момент этнической истории кочевников Центральной Азии. Дело в том, что как бы ни толковали этническую историю Центральной Азии, трудно начисто отрицать тот факт, что все послехуннские этнополитические образования кочевников являли собой комбинацию в основном тюркоязычных и монголоязычных этносов, пребывавших не только и не всегда в состоянии противоборства друг с другом и подчинения одних другими (смотря, какая династия находилась во главе объединения), но и находившихся в состоянии дуальнобрачного этнического родства между собой. Именно это последнее обстоятельство и нашло отражение в генеалогических легендах ранних тюрков и монголов, по следам которых мы и попытались пойти к истокам их этнической истории.
Глава 6 «К истокам этнической истории тюрков и монголов» является центральным во всей книге. Вложенная в нее концепция строится на следующей цепочке фактов, связанных с генеалогическими представлениями о себе тюрков и монголов: средневековые монголы, создатели Монгольской империи, считали своими прародителями волка и оленя; племена теле (хойху-ойхор-уйгур) производили себя от волка; тюрки-тукю вели свое происхождение от волчицы, и те, и другие были историческими преемниками хунну; но вместе с тем у туюо была и другая легенда о тюркском предке в образе белого оленя с золотыми рогами; у западных гуннов была легенда о том, как лань показала им дорогу (брод) через Меотиду (Азовское море); культ оленя развит в бонских верованиях тибетцев — потомков жунов и жун-ди.
Вообще-то, обозревая шире, поиски фольклорно-мифологических и художественно-изобразительных прообразов этих тотемных животных могут привести нас куда угодно: их мы видим и в изобразительном искусстве саков, савроматов и скифов, и в капитолийской волчице, вскормившей Ромула и Рема; и в мифологии греков, германцев, иранцев и хеттов; и наконец, тюркское слово бёри~бюри~бури — волк является индоиранским заимствованием, а имя иранского племени «sag» означает олень.
Но вместе с тем образы оленя и волка мы видим на петроглифах неолита и бронзового века Сибири и Центральной Азии, на оленных камнях, в пазырыкском и татарском изобразительном искусстве, в искусстве ордосских бронз и связанном с ними искусстве хунну. Там, на юге, где сформировались протосюнну (хунну) в непосредственном этническом контакте с жунами и ди, китайскими источниками зафиксированы эти тотемические образы. Они и вошли в легенды сначала хунну, затем тюрков-тукю и теле-уйгуров. Вот по какой линии связи должен идти и, как мы показали в работе, проходит путь движения генеалогических легенд тюрков и монголов.
Таким образом, от чтения второй части диссертации читатель получил представление об исторических и этнических процессах на юго-восточной окраине центральноазиатской степной ойкумены, результатом которых явился хуннский этнокультурный феномен, распространившийся оттуда на всю названную ойкумену. Суть этого феномена была все та же — контакты этносов и культур. И хотя последние на юге были, судя по письменным данным, более сложными и многокомпонентными, нежели аналогичные процессы на севере Центральной Азии, мы расцениваем их как эквивалент последних, отдавая при этом полный отчет в том, что археологические комплексы, соответствующие контактирующим этносам, здесь несколько иные, чем на севере. Тем не менее, на основании предложенной оценки ситуаций на севере и юге Центральной Азии как эквивалентных между собой, мы полагаем, что некоторые из имен, контактировавших на юге этносов, такие, как ди>дили>динлин и ху>дунху>хунну, можно было бы перенести на этнические общности севера, т. е. на этносы курганов-керексуров и плиточных могил соответственно.
Наконец, если обозначить этап и определить характер этнического процесса данного периода, приходящегося на позднюю древность -раннее средневековье, то его можно сформулировать как суперэтнический культурогенез в условиях тюрко-монгольской межэтнической интеграции, т. е. это была стадия, которую неизбежно должны были пройти хуннские племена и которая была предопределена предыдущей эпохой контактов крупных этнических массивов.
Глав 8, 9 и 10 посвящены эпохе средневековья — периоду Тюркских и Уйгурского каганатов и начала Монгольского государства (VI—XIII вв.). Суть этнических процессов этого периода и их результат можно охарактеризовать следующим образом: продолжение тюрко-монгольского суперэтнического развития, его неоднократные кризисы и, наконец, этническая трансформация. Последняя, т. е. этнотрансформация, связана с образованием очередного в истории кочевников Центральной Азии государства, возглавляемого на этот раз монгольской династией, потомков все того же знаменитого рода волка, связанных, как мы показали выше, с хуннской ветвью. Возникает естественный вопрос, кто были создатели великого Монгольского государства и какова была предшествующая их история.
Мы уже писали (см. главу «К истокам»), что единоплеменников царского рода монголов было много. Судя по тому, что их потомки — роды волка распространены в районе Байкала (среди западных бурят), в Западной Монголии (среди ойратов) и в Калмыкии (среди ушедших ойратов), можно лишний раз убедиться во мнении, что это — потомки племен, чья история и судьбы так или иначе связаны с хунну и их историческими преемниками по созданию кочевых государств в Центральной Азии. Со значительной долей вероятности, они могли быть потомками некогда сложившихся в одно целое хунну-сяньбийцев, прошедших свою историю через Сяньбийскую державу, затем через
281
Жужаньский каганат, а после разгрома последнего ушедших «в небытие» (в легендарный Эргунэ-Кун). Основные районы сосредоточения жужаней, их северные кочевья и политический центр каганата находились, судя по имеющимся сведениям, в горных долинах и степях Хангая и Алтая, где они и были, кстати, разгромлены тукюэсцами.
Исходя именно из этих данных, мы стали на сторону тех, кто подвергает сомнению версию восточной, связанной с Аргунью, локализации легендарного Эргунэ-Куна, и попытались подкрепить некоторыми соображениями западное направление поиска того места, куда племя буртэ-чино ушло, где оно возродилось и откуда вышло на арену истории, чтобы создать великую империю под именем монголов (см. главу «К историзму мифов»). Мы пришли к выводу, что местность Эргунэ-Кун, которая находилась, по признанию самих создателей легенды, в чужой земле (джадын-дзадын-задын газар) и которую, кстати, следует называть прародиной монголов лишь условно, может быть отнесена к западу от Байкала, где-то в горнотаежных котловинах типа Прихубсугулья и Восьмиречья или, даже возможно, Тувинской котловины.
Археологическая обеспеченность периода средневековья по сравнению с предыдущими, к сожалению, наименьшая. О комплексе различных видов памятников, составляющих единую археологическую культуру того времени, говорить не приходится. Объясняется это прежде всего неравномерностью исследования территории, на которой образовалось Монгольское государство и сложились окончательно монголоязычные этносы, но в то же время такое положение зависит, несомненно, и от характера исторических (политических) процессов в динамичном мире номадов Центральной Азии. Раскрыть и конкретизировать эту зависимость — задача не из легких, для этого необходимы повсеместные исследования интересующей нас территории и тщательная корреляция выявленных археологических памятников средневековья.
Особенность с археологическим обеспечением третьей части нашего исследования состоит в том, что сравнительно лучше исследованы Предбайкалье, Западное Забайкалье и Восточное Забайкалье, т. е. северная окраина монгольского мира. Однако именно с этими территориями, как выясняется, было поначалу связано появление на исторической арене тех монголов, которые создали государство, затем и империю. Вот почему, думается, не должно быть больших претензий к автору за то, что в этой части своей диссертации мы ограничились археологической панорамой лишь Байкальского района (см. главу «Корреляция»).
Что же касается существа дела, то автор в полной мере отдает себе отчет в том, что рассмотренные им памятники отражают неоднообразную этническую картину того периода и что какую-либо из групп выявленных погребальных комплексов невозможно связать конкретно с интересующими нас родами буртэ-чино — предками царского рода монголов, ибо там вблизи Байкала и в верховьях Онона китайскими и монгольскими летописцами констатируется присутствие народа дада (китайское наименование монголов) и бэдэ (самоназвание некоторых групп монгольских этносов, в частности, северных). Важно то, что археологические памятники по обе стороны Байкала демонстрируют смену погребальных комплексов с тюркскими чертами на комплексы с признанными монгольскими элементами погребальной обрядности. Иначе говоря, на примере средневековой археологии ближнего Прибайкалья можно констатировать процесс этнотрансформации — явление, о котором пишут теоретики этнологической науки.
Согласно нашей концепции важно и то, что земля Прибайкалья оказалась на пути движения к Онону племени буртэ-чино и там была заложена традиция брачного родства предков Чингисхана по женской линии. С тех пор эта прекрасная земля получила почтительное и святое для монголов имя «Баргуджин-Тукум».
И, наконец, последний очерк «Духовное освоение центральноазиатских ландшафтов и рождение экологической концепции Родины не нуждается в комментариях, ибо само его название говорит о том, где формировались монгольские племена как этническая общность.
Итак, на основе систематизации и корреляции материалов археологических культур и памятников Центральной Азии и с помощью данных религии, мифологии, героического эпоса, этнической генеалогии монгольских и тюркских народов мы попытались изложить свое понимание этнической истории Центральной Азии в древности и средневековье, приблизительно от XIII в. до н. э. до XIII в. н. э.
Автору удалось прийти к выводу об изначально разных корнях прамонгольских и пратюркских этносов, уходящих в крупные археологические комплексы позднего бронзового и раннего железного веков — культуру плиточных могил и культуру курганов-керексуров. Результатом длительных контактов этих культур явился сложный этнокультурный субстрат, на котором продолжилась и вместе с тем началась история суперэтнических образований кочевых племен Центральной Азии, начиная от Хуннской империи и кончая Монгольской.
На археологических и письменных источниках автор показал времена и пространства, в которых происходили ранние этнические контакты, приведшие в конце концов к трудно дифференцируемой этнографической близости тюркских и монгольских племен древности и средневековья.
В предлагаемой работе, думается, впервые нашла свою дополнительную развернутую аргументацию часто подвергаемая сомнению концепция о том, что родина монголов находится все же в Центральной Азии, а не вне ее, и что историю и культуру монгольских народов нельзя понять и изучить в отрыве от древних кочевых племен не только тюркского, но и тибетского происхождения.
Список литературы
1. Абдурахманов А., 1979. Этнотопонимика Казахстана. Алма-Ата, 1979.
2. Абетеков А. К., 1978. О погребении собаки в усуньском кургане Чуйской долины // КСИА 1978, № 154. С. 59-65. Абрамзон С. М., 1971. Киргизы и их историко-культурные связи. — JL, 1971. 404 с.
3. Алексеев В. П., 1961. Палеоантропология Алтае-Саянского нагорья эпохи неолита и бронзы // Антропологический сборник, III // Тр. ИЭ. -Т. 21. -М., 1961.
4. Алексеев В. П., 1982. О самом раннем этапе расообразования и этногенеза // Этнос в доклассовом и раннеклассовом обществе. — М., 1982. — С. 32-55.
5. Алексеев В. П., 1986. Этногенез. — М. Д986. 176 с.
6. Алексеев В. П., 1989. Историческая антропология и этногенез. М., 1989. 446 с.
7. Алексеев В. П., Гохман И. И., Тумэн Д., 1987. Краткий очерк палеоантропологии Центральной Азии (каменный век эпоха раннего железа) // Археология, этнография и антропология Монголии. — Новосибирск, 1987. — С. 208-241.
8. Алексеев Н. А., 1980. Ранние формы религии тюркоязычных народов Сибири. Новосибирск, 1980. 318 с.
9. Алексеев H. A., 1984. Шаманизм тюркоязычных народов Сибири. -Новосибирск, 1984. 233 с.
10. Алкин С. В., 1990. Погребения с подбоем в Центральной Азии // Палеоэтнология Сибири: Тез. докл. XXV PACK. Иркутск, 1990. -С. 68-70.
11. Амар А., 1989. Монголын товч туух. Улаанбаатар,1989. 207 с.
12. Артамонов М. И., 1973. Сокровища саков. М.,1973. 246с.
13. Арутюнов С. А., 1982. Этнические общности доклассовой эпохи // Этнос в доклассовом и раннеклассовом обществе. М., 1982. — С. 55-83.
14. Арутюнов С. А., 1987. Народы и культуры (развитие и взаимодействие). -М., 1987. 246 с.
15. Архив ЛОИА, ф. 42, д. 235-237.
16. Асеев И. В., 1980. Прибайкалье в средние века. Новосибирск, 1980. 152 с.
17. Асеев И. В., Кириллов И. И., Ковычев Е. В., 1984. Кочевники Забайкалья в эпоху средневековья. Новосибирск, 1984. 201 с. 287
18. Балданжапов П. Б., 1970. Altan tobci: Монгольская летопись XVIII в. -Улан-Удэ, 1970. 415 с.
19. Башаров Д., 1955. Собрание сочинений. М.,1955. 360 с.
20. Бернштам А. Н.,1935. Изображение быка в находках Ноин-Улинских курганов // Проблемы истории докапиталистических обществ. № 5-6. -С. 127-130.
21. Бернштам А. Н., 1935 а Историческая правда в легенде об Огуз-кагане // Советская этнография. -№ 5-6, с. 33-43.
22. Бернштам А. Н., 1951. Очерки истории гуннов. -JL, 1951. 256 с.
23. Бертагаев Т. А.,1976. Этнолингвистические этюды о племенах Центральной Азии // Исследования по истории и филологии Центральной Азии Вып. 6,- Улан-Удэ, 1976. — С. 24-39.
24. Билэгт JL, 1993. Гипотеза о времени ухода монголов в Эргунэ-Кун // Этническая история народов Южной Сибири и Центральной Азии. -Новосибирск, 1993. С. 106-113.
25. Билэгт Л., 1995. К вопросу о достоверности родословной Чингисхана // Археологийн судлал. Т. XV, f. 1-11. — Улаанбаатар, 1995. — С. 97-110.
26. Билэгт Л., 1995 а. К вопросу уточнения местонахождения Эргунэ-Куна // Туухийн судлал. Т. XXVII-XXVIII, f. 9. — Улаанбаатар, 1995.
27. Бира Ш., 1978. Монгольская историография (XIII—XVII вв.). М., 1978. — 320 с.
28. Бичурин Н. Я., 1950. Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена. Ч. 1. — М,- Л., 1950.
29. Боргояков М. И., 1976. Гунно-тюркский сюжет о прародителе-олене (быке) // СТ. -1976. -№ 3. С. 55-59.
30. Боровка Г. И.,1927. Археологическое обследование среднего течения р. Толы // Северная Монголия. Вып. 2. — Л., 1927.
31. Бромлей Ю. В., 1973. Этнос и энография. М., 1973. 284 с. 288
32. Бромлей Ю. В., 1981. Современные проблемы этнографии (очерк теории и истории). М., 1981. 290 с.
33. Бромлей Ю. В., 1983. Очерки теории этноса. М., 1983. 412 с.
34. Брук С. И., Чебоксаров H. H., 1976. Метаэтнические общности // Расы и народы, 1976, №6. С. 15-41
35. Вадецкая Э. Б.,1983. Проблема интерпретации окуневских изваяний // Пластика и рисунки древних культур. Новосибирск, 1983. — С. 8697.
36. Вайннггейн С. И.,1966. Памятники кызылганской культуры // Тр. ТКАЭЭ. Т. 2. — M. — Л.,1966. — С. 7-125.
37. Вайнштейн С. М., Липец Р. С., 1978. Проблемы взаимосвязи эпоса и народного изобразительного искусства кочевников Евразии («Джангар» и проблемы эпического творчества тюрко-монгольских народов) : Тез. докл. Элиста, 1978. — С. 23-25.
38. Варенов А. В., 1993. Где проходила восточная граница расселения сюнну (к проблеме этнической атрибуции погребений) // Двадцать четвертая науч. конф. «Общество и государство в Китае»: Тез. докл. -Ч. 1. -М., 1993. -С. 61-64.
39. Варенов А. В., 1995. Скифские памятники Алтая, Ордоса и происхождение сюннуской культуры // Проблемы охраны, изучения и использования культурного наследия Алтая: Тез. конф. -Барнаул, 1995. С. 123-125.
40. Варенов А. В.,1995 а. Древнее население Алтая и происхождение сюнну // Аборигены Сибири: проблемы изучения исчезающих языков и культур: Тез. докл. Междунар. конф. Новосибирск, 1995. -С. 12-15.
41. Васильева Т. Б.,1995. Архетип младенца в бурятской мифологии // Россия и Восток: проблемы взаимодействия: Тез. докл. III Междунар. конф. Ч. 3. — Челябинск, 1995. — С. 96-99. 289
42. Викторова Л. Л., 1972. Этно-культурные связи монгольских и тибетских племен в древности и раннем средневековье // Центральная Азия и Тибет. История и культура Востока Азии, т. 1. -Новосибирск, 1972. — С. 64-68.
43. Викторова Л. Л., 1984. Ранние формы религии киданей // Бронзовый и железный век Сибири. Новосибирск, 1984. — С. 261-266.
44. Викторова Л. Л., 1980. Монголы. Происхождение народа и истоки культуры. -М., 1980. 224 с.
45. Викторова Л. Л., 1987. Основные проблемы этногенеза монголов и состояние источников для их решения // Этнографийн судлал. Т. X, £ 1-9. -Улаанбаагар, 1987. — С. 6-12.
46. Владимирцов Б. Я., 1929. По поводу древнетюркского Ошкеп у1Б // Докл. АН СССР,-№7,-С. 161-169.
47. Владимирцов Б. Я.,1934. Общественный строй монголов: Монгольский кочевой феодализм. Л., 1934. 431 с.
48. Волков В. В., 1967. Бронзовый и ранний железный век Северной Монголии. Улан-Батор, 1967. 148 с.
49. Волков В. В.,1980. Курганы афанасьевского типа в Монголии // Археологийн судлал. Т. IX. — Вып. 1-4. — Улан-Батор, 1980. — С. 1317.
50. Волков В. В., 1981. Оленные камни Монголии. Улан-Батор, 1981. 254 с.
51. Воробьев М. В., 1994. Манчжурия и восточная Внутренняя Монголия (с древнейших времен до IX в. включительно). Владивосток, 1994. 410 с.
52. Вяткина К. В.,1960. Монголы Монгольской Народной Республики // Восточно-Азиатский этнографический сборник. М,- Л., 1960.
53. Галданова Г. Р.,1987. Доламаистские верования бурят. -Новосибирск, 1987. 116 с. 290
54. Гафуров Б. Г., Мирошников Л. И.,1976. Изучение цивилизаций Центральной Азии. (Опыт международного сотрудничества по проекту ЮНЕСКО). М.,1976. 128 с.
55. Георгиевский С.,1888. О корневом составе китайского языка в связи с вопросом происхождения китайцев. СПб., 1888.
56. Гоголев А. И.,1986. Историческая этнография якутов: Вопросы происхождения якутов. Якутск, 1986. 92 с.
57. Гоголев А. И.,1989. Раннесредневековые истоки в традиционной культуре якутов и бурят // Этнокультурные процессы в Юго-Восточной Сибири в средние века. Новосибирск, 1989. С. 126-132.
58. Гоголев А. И., 1993. Якуты (проблемы этногенеза и формирования культуры). -Якутск, 1993. 200 с.
59. Гонгор Д.,1970. Халхтовчоон-Улаанбаатар, 1970. 342 с.
60. Гохман И. И.,1977. Антропологическое изучение Забайкалья в Троицко-Кяхтинском отделении Русского Географического общества // Очерки истории русской этнографии, фольклористики и антропологии. Вып. 7 // Тр. ИЭ. — Т. 104. — Л.,1977. С. 158-164.
61. Гохман И. И., 1980. Происхождение центрально-азиатской расы в свете новых палеоантропологических материалов // Сб. МАЭ. Вып. 36. — Л.,1980. — С. 5-34.
62. Грач А. Д., 1965. Проблема соотношения культур скифского времени Тувы, Алтая и Минусинской котловины в свете новейших исследований 1954 г. в СССР. Баку, 1965.
63. Грач А. Д., 1967. Могильник Саглы-Бажи II и вопросы археологии Тувы скифского времени археологии Тувы скифского времени // СА. 1967. — № 3.
64. Грач А. Д., 1971. Новые данные о древней истории Тувы // Уч. зап. ТувНИИЯЛИ. Вып. 15. -Кызыл, 1971. — С. 93-106.
65. Грач А. Д., 1980. Древние кочевники в центре Азии. М.,1980. 256 с. 291
66. Гришин Ю. С.,1975. Бронзовый и ранний железный века Восточного Забайкалья. -М., 1975. 136 с.
67. Гришин Ю. С., 1980. О «фигурных» плиточных могилах Забайкалья и Монголии // КСИА, 1980. Вып. 162. — С. 12-15.
68. Гришин Ю. С., 1981. Памятники неолита, бронзового и раннего железного веков лесостепного Забайкалья. М., 1981. — 204 с.
69. Грумм-Гржимайло Г. Е.,1907. Описание путешествия в Западный Китай. -Т. З. СПб., 1907.
70. Грумм-Гржимайло Г. Е.,1926. Западная Монголия и Урянхайский край. Исторический очерк этих стран в связи с историей Средней Азии. -Л., 1926. 898 с.
71. Грязнов М. П.,1961. Древнейшие памятники героического эпоса народов Южной Сибири // Археологический сборник ГЭ. Вып. 3. -Л,1961. — С. 7-31.
72. Грязнов М. П.,1977. Бык в обрядах и культах древних скотоводов // Проблемы археологии Евразии и Северной Америки. М.,1977. — С. 80-88.
73. Гумилев Л. Н., 1959. Динлинская проблема // Изв. Всесоюзного Географического общества. -Т. 91. Вып. I.
74. Гумилев Л. Н., 1960. Хунну. М.,1960. 292 с.
75. Гумилев Л. Н.,1967. Древние тюрки. М.,1967. 504 с.
76. Гумилев Л. Н., 1989. Этногенез и биосфера Земли. Л., 1989. 496 с.
77. Давыдова A. B., 1985. Иволгинский комплекс (городище и могильник) памятник хунну в Забайкалье. — Л., 1985. 112 с.
78. Данилов С. В., 1985. Жертвоприношения животных в погребальных обрядах монгольских племен Забайкалья // Древнее Забайкалье и его культурные связи. Новосибирск, 1985. — С. 86-91. 292
79. Данилов C. B., Коновалов П. Б.,1988. Новые материалы о курганах-керексурах Забайкалья и Монголии // Памятники эпохи палеометалла в Забайкалье. Улан-Удэ, 1988. — С. 71-79.
80. Данилов C. B., 1995. Жертвенный комплекс у с. Нижний Бургултай и некоторые вопросы древних обрядов и верований // Культура и памятники бронзового и раннего железного веков Забайкалья и Монголии. Улан-Удэ, 1995. — С. 91-101.
81. Дашибалов Б. Б.,1995. Археологические памятники курыкан и хори. -Улан-Удэ, 1995. 190 с.
82. Двадцатая конференция «Общество и государство в Китае». М., 1989.
83. Дебец Г. Ф.,1926. Могильник железного века у с. Зарубино // Бурятиеведение. -№ 2. Верхнеудинск,1926. — С. 14-19.
84. Дебец Г. Ф.,1948. Палеоантропология СССР // Тр. ИЭ, нов. сер. Т. 4. -М,-Д.,1948.
85. Дебец Г. Ф.,1951. Антропологические исследования в Камчатской области // Тр. ИЭ (новая серия). Т. 17.
86. Дебец Г. Ф.,1958. Опыт графического изображения генеалогической классификации человеческих рас // СЭ. № 4.
87. Дерфер Г., 1986. О языке гуннов // Зарубежная тюркология. -М.,1986. -С. 71-134.
88. Диков Н. Н.,1958. Бронзовый век Забайкалья. Улан-Удэ, 1958. 108 с.
89. Добжанский В. Н., 1990. Наборные пояса кочевников Азии. -Новосибирск, 1990. 162 с. + Приложение рис.
90. Довдойн Б., 1995. Монголчуудын чулуун хОрОг (XIII -XIV зуун). -Улаанбаатар, 1995. 112 с.
91. Дорж Д., 1971. Неолит Восточной Монголии. Улан-Батор, 1971. 172 с.
92. Доржсурэн Ц.,1961. Умард хунну. Улаанбаатар, 1961. 112 с. 293
93. Дорошенко Е. А.,1982. Зороастрийцы в Иране (Историко-этнографичеекий очерк). -М., 1982. 134 с.
94. Дутаров Д. С., 1991. Исторические корни белого шаманства. -М.,1991. 200 с.
95. Дутаров Р. Н.,1989. Ю. Н. Рерих и «звериный стиль в Тибете» // Проблемы археологии скифо-сибирского мира (социальная структура и общественные отношения) : Тез. Всесоюз. археол. конф. -Ч. 2. Кемерово, 1989. — С. 67-69.
96. Дульзон А. П. Д968. Гунны и кеты // Известия СО АН СССР, сер. общ. наук. № 11, вып. 3. — С. 137-142.
97. Дьяконова В. П., 1977. Религиозные культы тувинцев // Сб. МАЭ «Памятники культуры народов Сибири и Севера (вторая половина XIX нач. XX вв.)». — Т. 33. — Л., 1977.
98. Дэвлет М. А., 1980. Сибирские поясные ажурные пластины: II в. до н. э. — I н. э. -М.,1980. 110 с.
99. Дэвлет М. А.,1980а. Петроглифы Мугур-Саргола. М.,1980. 272 с.
100. Дэвлет М. А.,1990. Новые материалы о древнем культе быка в Центральной Азии // Археология Средней Азии, Кавказа и Сибири. -Краткие сообщения Института археологии АН СССР. № 199.
101. Еремеев Д. Е.,1990. «Тюрк» этноним иранского происхождения? (К проблеме этногенеза древних тюрков) // СЭ. — № 3,- С. 129-136.
102. Жирмунский В. М.,1974. Тюркский героический эпос. Л.,1974. 728 с.
103. Заднепровский Ю. А.,1991. Происхождение и этническая атрибуция срубных могил периода II в. до н. э. II в. н. э. в Северной Корее // Изв. СО РАН. Сер. история, филология и философия. — Вып. 1,- С. 53-61. 294
104. Зайцев М. А.,1984. Ритуальные и погребальные памятники курумчинской культуры в Приольхонье (оз. Байкал) : Автореф. дис. канд. ист. наук. Кемерово, 1984. 16 с.
105. Зеленин Д. К.,1936. Культ онгонов в Сибири. -М.,1936.
106. Зориктуев Б. Р.,1987. К вопросу о времени и путях формирования монголоязычного ядра бурят в Прибайкалье // Актуальные проблемы истории Бурятии. Улан-Удэ, 1987. — С. 29-34.
107. Зориктуев Б. Р.,1997. Прибайкалье в середине VI начале XVII в. -Улан-Удэ, 1997. 104 с.
108. Зуев Ю. А.,1967. Древнетюркские генеалогические предания как источник по ражей истории тюрков: Автореф. дис.. канд. ист. наук. Алма-Ата, 1967
109. Иванов В. В., 1968. Дуальная организация первобытных народов и происхождение дуалистических космогонии // СА, 1968, № 4.
110. Именохоев Н. В.,1988. Средневековой могильник у с. Енхор на р. Джиде // Памятники эпохи палеометалла в Забайкалье. Улан-Удэ,1988,-С. 109-121.
111. Именохоев Н. В.,1989. К вопросу о культуре ранних монголов (по данным археологии) // Этнокультурные процессы в Юго-Восточной Сибири в средние века. Новосибирск, 1989. — С. 55-62.
112. Именохоев Н. В.,1992. Раннемонгольская археологическая культура // Археологические памятники средневековья в Бурятии и Монголии. -Новосибирск, 1992. С. 23-48.
113. Именохоев Н. В., Коновалов П. Б.,1985. К изучению погребальных памятников монголов в Забайкалье // Древнее Забайкалье и его культурные связи. Новосибирск, 1985. — С. 69-86.
114. Иностранцев К. А.,1926. Хунну и гунны. Л.,1926. 152 с.
115. История Сибири. Т. 1. — Л., 1968. 454 с.
116. История Тувы. Т. 1. -М., 1964. 410 с. 295
117. Ишжамц Н., 1974. О формировании монгольской народности // Роль кочевых народов в цивилизации Центральной Азии. —Улаанбаатар, 1974. -С. 155-158.
118. Каталог гор и морей: Шань хай-цзин. М., 1977. 236 с.
119. Кириллов И. И.,1979. Восточное Забайкалье в древности и средневековье. Иркутск, 1979. 69 с.
120. Кириллов ИИ.,1983. Ундугунская культура железного века в Восточном Забайкалье // По следам древних культур Забайкалья. -Новосибирск, 1983,- С. 123-138.
121. Кирюшин Ю. Ф., Тишкин A. A., 1997. Скифская эпоха Горного Алтая. Культура раннескифского времени, Барнаул, 1997.
122. Киселев С. В.,1949. Древняя история Южной Сибири // МИА. № 9. -М,- Л., 1949. 364 с.
123. Киселев С. В.,1960. Неолит и бронзовый век Китая // CA. № 4.
124. Клоусон Дж., 1969. Лексико-статистическая оценка алтайской теории //ВЯ, 1969, №5.
125. Кляшторный С. Г.,1965. Проблемы ранней истории племен турк (ашина) // Новое в советской археологии. -М.,1965.
126. Кляшторный С. Г., 1981. Мифологические сюжеты в древнетюркских памятниках. // Тюркологический сборник 1977. — М.,1981,- С. 117139.
127. Ковалев A. A., 1988. Зарубежная Центральная Азия в эпоху древних кочевников // III Всесоюз. конф. востоковедов «Взаимодействие и296взаимовлияние цивилизаций и культур на востоке»: Тез. докл. Т. 1. — (Душанбе, 16-18 мая 1988). -М» 1988. -С. 167-169.
128. Ковычев Е. В.,1982. К вопросу о древних связях племен Забайкалья с тюркоязычными соседями в I тыс. н. э. // Археология Северной Азии. -Новосибирск, 1982. С. 148-156.
129. Ковычев Е. В.,1983. Могильник железного века у станции Дарасун // По следам древних культур Забайкалья. Новосибирск, 1983. — С. 112-123.
130. Ковычев Е. В.,1984. История Забайкалья I сер. II тыс. н. э. -Иркутск, 1984. 96 с.
131. Ковычев Е. В.,1989. Этническая история Восточного Забайкалья в эпоху средневековья (по археологическим данным) // Этнокультурные процессы в Юго-Восточной Сибири в средние века,-Новосибирск, 1989. — С. 21-27.
132. Кожин П. М., 1977. Некоторые данные о древних культурных контактах Китая с внутренними районами евразийского материка // Н. Я. Бичурин и его вклад в русское востоковедение. (К 200-летию со дня рождения). Материалы конф. Ч. П. -М. Д977.
133. Козин С. А.,1941. Сокровенное сказание: Монгольская хроника 1240 г. -М,-Л.,1941. -Т. 1.
134. Козлов В. И., 1982. Особенности воспроизводства населения в доклассовом и раннеклассовом обществе // Этнос в доклассовом и раннеклассовом обществе. М., 1982. — С. 9-32.
135. Козлов П. К.,1925. Северная Монголия. Ноин-улинские памятники // Краткие отчеты экспедиции по исследованию Северной Монголии в связи с Монголо-Тибетской экспедицией П. К. Козлова. Л., 1925. 61с. 297
136. Комиссаров С. А. Д987. Археологические памятники дунху: проблема отождествления // Международный конгресс монголоведов: Докл. сов. делегации. -М.,1987.
137. Комиссаров С. А.,1988. Комплекс вооружения Древнего Китая. Эпоха поздней бронзы. Новосибирск, 1988. 120 с.
138. Комиссаров С. А.,1992. Археологические памятники шаньжунов. // Петр Алексеевич Кропоткин гуманист, ученый, революционер. -Российская науч. конф.: Сборник тезисов. — Чита, 1992. — С. 95-96.
139. Коновалов П. Б.,1976. Хунну в Забайкалье. Улан-Удэ, 1976. 220 с.
140. Коновалов П. Б., Именохоев Н. В., 1982. Об изучении средневековых памятников Западного Забайкалья // Проблемы археологии и этнографии Сибири. Тез. конф. — Иркутск, 1982. — С. 128- 130.
141. Коновалов П. Б.,1983. Древнейшие этнокультурные связи народов Центральной Азии // Этнические и историко-культурные связи монгольских народов. Улан-Удэ, 1983. — С. 36-46.
142. Коновалов П. Б.,1983 а. К проблеме этнической дифференциации древних культур Центральной Азии. // Рериховские чтения. -Препринт. Новосибирск, 1983.
143. Коновалов П. Б.,1984. Об этническом аспекте истории хунну. // Этническая история народов Сибири и сопредельных территорий: Тез. докл. Омск, 1984. — С. 70-74.
144. Коновалов П. Б., 1987. Культура курганов-керексуров Центральной Азии // Проблемы археологии Степной Евразии: Тез. докл., ч. I. -Кемерово, 1987. -С. 120-124.
145. Коновалов П. Б., 1987 а. К проблеме историко-археологического синтеза на современном этапе изучения средневековой истории Бурятии // Актуальные проблемы истории Бурятии, тез. док. конф. -Улан-Удэ, 1987. -С. 13-18. 298
146. Коновалов П. Б., 1988. Древнейшие контакты тюрков и монголов в свете археологических данных. // Тюркология-88: Тез. докл. V Всесоюз. конф. ФрунзеД988. -С. 583-585.
147. Коновалов П. Б., 1989. Корреляция средневековых культур Прибайкалья и Забайкалья. // Этнокультурные процессы в Юго-восточной Сибири в средние века. Новосибирск, 1989,- С. 5-21.
148. Коновалов П. Б., 1989 а. Генеалогические легенды древних тюрков и монголов и археология. // Цыбиковские чтения: Тез. докл. -Улан-Удэ, 1989. -С. 70-73.
149. Коновалов П. Б., 1990. Историко-археологическая интерпретация мифа о Буртэ-Чино и Гуа-Марал «Сокровенного сказания монголов» // Mongolica: An International Annual of Mongol Studies. Vol. 1 (22) -Ulanbator,1990. -C. 54-71.
150. Коновалов П. Б.,1990 а. К изучению тотемических воззрений тюркских и монгольских народов. // Традиционное мировоззрение и культура народов Сибири и сопредельных территорий: Тез. докл. Всесоюз. конф. Улан-Удэ, 1990. -С. 83-85.
151. Коновалов П. Б.,1990 б. Древние культуры Бурятии и этническая динамика. // Актуальные проблемы истории Бурятии. Улан-Удэ, 1990,-С. 3-6.
152. Коновалов П. Б.,1991. Эпос «Гэсэр» и археология. // Гэсэриада: прошлое и настоящее. Улан-Удэ, 1991. — С. 89-95. 299
153. Коновалов П. Б., 1992. О культе неба у монголов // «Банзаровские чтения»: Докл. и тез. науч. конф., посвящен. 170-летию со дня рождения Доржи Банзарова. Улан-Удэ, 1992. — С. 24-32.
154. Коновалов П. Б., 1992 а. Плиточные могилы и курганы-керексуры Монголии и Бурятии: проблемы синтеза протокультур // VI Междунар. конгресс монголоведов (Улан-Батор, 1992) : Докл. российск. делегации. Вып. 1. — М.,1992. — С. 112-118.
155. Коновалов П. Б., 1992 б. О двух археологических культурах эпохи бронзы Монголии и Бурятии // Олон улсын монголч эрдэмтдийн VI Их хурал: Илтгэлуудийн товчлол. Улаанбаатар, 1992. -С. 137-139.
156. Коновалов П. Б.,1992 в. Роль древних культур Центральной Азии в формировании экологических традиций и культурно-исторического ландшафта // Экологические традиции в культуре народов Центральной Азии. Новосибирск, 1992.
157. Коновалов П. Б., 1993. К истокам этнической истории тюрков и монголов // Этническая история народов Южной Сибири и Центральной Азии. Новосибирск, 1993. — С. 5-29.
158. Коновалов П. Б., 1995. Об историческом и этническом сознании средневековых монголов // «Тайная история монголов»: источниковедение, история, филология. Новосибирск, 1995,- С. 2648.
159. Коновалов П. Б.,1995 а. К проблеме исторических корней Гэсэриады // Гэсэриада духовное наследие народов Центральной Азии. -Улан-Удэ, 1995,-С. 27-29.
160. Коновалов П. Б.,1996. О происхождении и ранней истории хунну // 100 лет хуннской археологии: Докл. и тез. Междунар. конф. Улан-Удэ,1996,-С. 58-62. 300
161. Коновалов П. Б., Свинин В. В., Зайцев М. А., 1983. Могильник Ацай II и некоторые вопросы изучения плиточных могил Прибайкалья // По следам древних культур Забайкалья. Новосибирск, 1983. — С. 85100.
162. Коновалов П. Б., Наваан Д., Волков В. В., Санжамятав Г., 1995. Керексуры в Тосонцэнгэле (р. Идэр, Монголия) // Культуры и памятники бронзового и раннего железного веков Забайкалья и Монголии. Улан-Удэ, 1995. -С. 47-58.
163. Коновалов П. Б., Данилов С. В., Именохоев Н. В., 1995. Бронзовый меч из села Петропавловка (р. Джида, Бурятия) // Культуры и памятники бронзового и раннего железного веков Забайкалья и Монголии. Улан-Удэ, 1995,- С. 59-61.
164. Кононов А. Н., 1949. Опыт анализа термина турк // СЭ. 1949. -№1,-С. 40-47.
165. Кононов А. Н., 1982. История изучения тюркских языков в России. Дооктябрьский период. Изд. 2-е. Л., 1982. 360 с.
166. Константинов И. В., 1975. Происхождение якутского народа и его культуры // Якутия и ее соседи в древности. Якутск, 1975. — С. 106173.
167. Константинов М. В.,1994. Каменный век восточного региона Байкальской Азии. Улан-Удэ-Чита, 1994,- Изд-во ЧГПИ. 180 с.
168. Крюков М. В., 1976. Эволюция этнического самосознания и проблема этногенеза // Расы и народы, 1976, №6. С. 42-63.
169. Крюков М. В., Софронов М. В., Чебоксаров Н. Н., 1978. Древние китайцы: проблемы этногенеза. М., 1978. 342 с.
170. Крюков М. В., 1982. Этнические и политические общности: диалектика взаимодействия // Этнос в доклассовом и раннеклассовом обществе. М., 1982. — С. 147-163. 301
171. Ксенофонтов Г. В., 1977. Эллэйада (материалы по мифологии и легендарной истории якутов. М., 1977. 248 с.
172. Кубарев В. Д., 1979. Древние изваяния Алтая. (Оленные камни). -Новосибирск, 1979. 120 с.
173. Кубарев В. Д., 1984. Древнетюркские изваяния Алтая. -Новосибирск, 1984. 230 с.
174. Кубарев В. Д., Черемисин Д. В., 1987. Волк в искусстве и верованиях кочевников Центральной Азии // Традиционные верования и быт народов Сибири. Новосибирск, 1987.
175. Куббель Л. Е., 1982. Этнические общности и потестарно-политические структуры доклассового и раннеклассового общества // Этнос в доклассовом и раннеклассовом обществе. М., 1982. -С. 124-147.
176. Кузьмина Е. Е., 1981. Происхождение индоиранцев в свете новейших археологических данных // Этнические проблемы истории Центральной Азии в древности. М., 1981. — С. 101-125.
177. Кызласов И. Л., 1982. Гора прародительница в фольклоре хакасов // Советская этнография. — 1982. — № 2.
178. Кызласов Л. Р., 1960. Таштыкская эпоха в истории хакасско-минусинской котловины. -М., 1960. 195 с.
179. Кызласов Л. Р., 1969. История Тувы в средние века. М., 1969. 212 с.
180. Кызласов Л. Р., 1975. Ранние монголы (к проблеме истоков средневековой культуры) // Сибирь, Центральная и Восточная Азия в средние века. История и культура востока Азии. Т. З. Новосибирск, 1975. -С. 170-177.
181. Кызласов Л. Р., 1978. К изучению оленных камней и менгиров // КСИА. 1978. — Вып. 154. — С. 25-30.
182. Кызласов Л. Р., 1979. Древняя Тува. М., 1979. 208 с. 302
183. Кызласов Л. Р., 1984. История Южной Сибири в средние века. М., 1984. 168 с.
184. Кызласов Л. Р., Ивашина Л. Г., 1989. Курганы средневековых тюрков в Северо-Восточной Бурятии // Этнокультурные процессы в Юго-Восточной Сибири в средние века: Сб. науч. тр. Новосибирск, 1989. — С. 34-52.
185. Кычанов Е. И., 1980. Монголы в VI первой половине XII в. // Дальний Восток и соседние территории в средние века. — История и культура востока Азии. — Новосибирск, 1980. -С. 136-148.
186. Кюнер Н. В., 1961. Китайские известия о народах Южной Сибири, Центральной Азии и Дальнего Востока. М., 1961.
187. Ларичев В. Е., 1959. О происхождении культуры плиточных могил Забайкалья // Археологический сборник (1). Улан-Удэ, 1959. С. 63-73.
188. Ларичев В. Е., 1990. Предисловие // Китай в эпоху древности. -Новосибирск, 1990. С. 5-8.
189. Лбова Л. В., 1994. Брянский палеолитический комплекс (Западное Забайкалье) // Автореферат дис. канд. ист. наук. Новосибирск, 1994. 20 с.
190. Липец Р. С., 1978. Меч из редкостной бронзы. (Отголоски эпохи освоения металлов в тюркско-монгольском эпосе) // СЭ. 1978. -№2. -С. 107-122.
191. Лубсан Данзан., 1973. Алтан тобчи («Золотое сказание») // Пер. с монгол., введ., коммент. и прилож. Н. П. Шастиной. М., 1973. 440 с.
192. Лувсанданзан., 1990. Алтан товч: Эртний хаадын ундэслэсэн тер есны зохиолыг товчлон хураасан Алтан товч хэмээх оршивай. -Улаанбаатар, 1990. 192 с.
193. Малов С. Е., 1951. Памятники древнетюркской письменности. Тексты и исследования. — М.; Л., 1951. 303
194. Малявкин А. Г., 1989. Танские хроники о государствах Центральной Азии. Новосибирск, 1989.
195. Мамонова Н. Н., 1974. К антропологии гуннов Забайкалья // Расогенетические процессы в этнической истории. М., 1974. — С. 227-248.
196. Мамонова Н. Н., 1980. Антропологический тип древнего населения Западной Монголии по данным палеоантропологии // Сб. МАЭ. -Вып. 36. -Л., 1980. -С. 60-74.
197. Манжигеев И. А., 1978. Бурятские шаманистические и дошаманистические термины. М., 1978. 125 с.
198. Маннай-оол М. X., 1968. Оленные камни Тувы // Учен. зап. ТНИИЯЛИ. Вып. 13. — Кызыл, 1968.
199. Маннай-оол М. X., 1970. Тува в скифское время. (Уюкская культура). -М., 1970. 118 с.
200. Маргулан А. X., 1979. Бегазы дандыбаевская культура Центрального Казахстана. — Алма-Ата, 1979. 336 с.
201. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 21. — Изд. 2-е.
202. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 1.
203. Материалы по истории древних кочевых народов группы дунху // Введ., пер. и коммент. В. С. Таскина. -М., 1984. 486 с.
204. Материалы по истории сюнну. (По китайским источникам) // Предисл., пер. и прим. В. С. Таскина. -М., 1968. 176 с.
205. Материалы по истории сюнну. (По китайским источникам). Вып. 2 // Предисл., пер. и прим. В. С. Таскина. -М., 1973. 172 с.
206. Мелетинский Е. М., 1963. Происхождение героического эпоса. М., 1963.
207. Миняев С. С.,1979. Культуры скифского времени Центральной Азии и сложение племенного союза сюнну // Тез. докл. Всесоюз. конф. 304
208. Проблемы скифо-еибирского культурно-исторического единства». -Кемерово, 1979. С. 74-76.
209. Миняев С. С., 1986. Исчезнувшие народы. Сюнну. Природа. — 1986. — № 4. — С. 42-53.
210. Миняев С. С., 1987. Происхождение сюнну: современное состояние проблемы // Проблемы археологии степной Евразии: Тез. докл. конф. -Ч. 2. Кемерово, 1987. — С. 124-145.
211. Миняев С. С., 1991. О дате появления сюнну в Ордосе // Проблемы хронологии в археологии и истории. Барнаул, 1991. — С. 108-120.
212. Миняев С. С., 1998. Дырестуйский могильник. СПб., 1998. 113 с.
213. Мифологический словарь., 1990. М.: «Советская энциклопедия», 1990. 672 с.
214. Михайлов Т. М., 1980. Из истории бурятского шаманизма. -Новосибирск, 1980. 320 с.
215. Михайлов Г. И., 1983. Мифы в исторических сочинениях XIII-XIX вв. монгольских народов // Фольклор и историческая этнография. -М., 1983. С. 88-106.
216. Михайлов В. А., 1993. Войлочная и деревянная юрта у бурят. -Улан-Удэ, 1993. 75 с.
217. Михайлов В. А., 1993а. Оружие и доспехи бурят. Улан-Удэ, 1993. 71 с.
218. Молодин В. И., 1985. Бараба в эпоху бронзы. Новосибирск, 1985. 200 с.
219. Монголын нууц товчоо. Хуучин монгол хэлнээс одоогийн монгол бичгийн хэлээр Ц. Дамдинсурэн орчуулав. Улаанбаатар, 1990.
220. Мэнэс Г., 1986. О семантике теонима «Ульген» // Исследования по исторической этнографии монгольских народов. М., 1986. — С. 93-101. 305
221. Наваан Д., 1974. Керамика из плиточных могил по р. Онон // Бронзовый и железный век Сибири. Новосибирск, 1974. С. 110-113.
222. Наваан Д., 1974 а. Бронзовый век Монголии в истории Центральной Азии // Тов Азийн иргэншилд нуудлчдийн роль. Улаанбаатар, 1974. -С. 211-213.
223. Наваан Д., 1975. Дорнод Монголын хурлийн уе. Улаанбаатар, 1975. 200 с.
224. Неклюдов С. Ю., 1981. Мифология тюркских и монгольских народов. (Проблемы взаимосвязей) // Тюркологический сборник. -1977. -М., 1981. С. 183-202.
225. Немеров В. Ф., 1981. Восточное Забайкалье в первой половине II тыс. н. э. (по материалам погребений) : Автореф. дис.. канд. ист. наук. Новосибирск, 1981. 23 с.
226. Нимаев Д. Д., 1990. Об интерпретации некоторых сюжетов из «Сокровенного сказания» // Актуальные проблемы истории Бурятии. -Улан-Удэ, 1990. -С. 25-27.
227. Новгородова Э. А., 1962. Ножи карасунского времени из Монголии и Южной Сибири // Монгольский археологический сборник. М., 1962-С. 11-17.
228. Новгородова Э. А., 1970. Центральная Азия и карасукская проблема. -М» 1970. 192 с.
229. Новгородова Э. А., 1981. Ранний этап этногенеза народов Монголии (конец III—I тысячелетие до н. э.) // Этнические проблемы истории Центральной Азии в древности. М., 1981. — С. 207-215.
230. Новгородова Э. А., 1984. Мир петроглифов Монголии. -М., 1984. 168 с.
231. Новгородова Э. А., 1989. Древняя Монголия. М.: Изд-во «Наука», 1989. 284 с. 306
232. Новоженов В. А., 1994. Наскальные изображения повозок Средней и Центральной Азии. Алматы., 1994. 266 с.
233. Окладников А. П., 1937. Очерки истории западных бурят-монголов XVII-XVIII вв. -Л., 1937.
234. Окладников А. П., 1948. Древняя тюркская культура в верховьях Лены // КСИИМК. 1948. — Вып. 19.
235. Окладников А. П., 1951. Археологические исследования в Бурят-Монголии // Изв. АН СССР, сер. ист. и филос. 1951. — Т. 8. — № 5. -С. 440-450.
236. Окладников А. П., 1954. Образ птицы в искусстве бронзового века Забайкалья и его аналогии в народном искусстве бурят // СЭ, 1954, №1. С. 150-153.
237. Окладников А. П., 1955. История Якутской АССР. Л., 1955. — Т. 1. 432 с.
238. Окладников А. П., 1956. Древнее население Сибири и его культура // Народы Сибири. М. -Л., 1956. — С. 21- 107.
239. Окладников А. П., 1958. Археологические данные о появлении первых монголов в Прибайкалье // Филология и история монгольских народов: (Памяти академика Б. Я. Владимирцова). М., 1958. — С. 202-213.
240. Окладников А. П., 1959. Триподы за Байкалом. СА. — 1959. — № 3. -С. 114-132.
241. Окладников А. П., 1960. Бурхотуйская культура железного века в Юго-Западном Забайкалье // Тр. БКНИИ. Улан-Удэ, 1960. Вып. 3. -С. 16-30.
242. Окладников А. П., 1964. Первобытная Монголия. К вопросу древнейшей истории Монголии // Studia archaeologica. 1964. — Т. 3, fase. 8-10. 307
243. Окладников А. П., Запорожская В. Д., 1969-1970. Петроглифы Забайкалья. 4. 1. -Л., 1969. 220 е.; 4. 2. -Л., 1970. 264 с.
244. Окладников А. П., 1976. Оленный камень с р. Иволги // История и культура Бурятии. Улан-Удэ, 1976. — С. 207-220.
245. Окладников А. П., Кириллов И. И., 1980. Юго-восточное Забайкалье в эпоху камня и ранней бронзы. Новосибирск, 1980. 176 с.
246. Окладников А. П., Худяков Ю. С., Асеев И. В., Конопацкий А. К.,1983. Археологические исследования в Монголии в 1979-1980 годах // Археология эпохи камня и металла в Сибири. -Новосибирск, 1983.
247. Петри Б. Э., 1922. Далекое прошлое Бурятского рая. Иркутск, 1922.
248. Петри Б. Э., 1928. Далекое прошлое Прибайкалья. Иркутск, 1928.
249. Позднеев Д., 1899. Исторический очерк уйгуров. СПб., 1899.
250. Полосьмак Н. В., 1990. Некоторые аналоги погребениям в могильнике у дер. Даодуньцзы и проблема происхождения сюннуской культуры // Китай в эпоху древности. Новосибирск, 1990. -С. 101-107.
251. Потанин Г. Н.,1881-1883. Очерки Северо-западной Монголии. -СПб., 1881. Вып. 2; 1883. — Вып. 3.
252. Потапов Л. П., 1935, Следы тотемических представлений у алтайцев //СЭ. -1935. -№4-5.
253. Потапов Л. П., 1946. Культ гор на Алтае // Советская этнография. -1946. -№2. 308
254. Потапов JI. П. 1957. Новые данные о древнетюркеком otukan // Советское востоковедение. 1957. — № 1.
255. Потапов Л. П., 1968. Тюркские народы Южной Сибири // История Сибири. Т. 1. — Л, 1968. — С. 266-284.
256. Потапов Л. П., 1969. Этнический состав и происхождение алтайцев. -Л., 1969. 196 с.
257. Потапов Л. П., 1973. Умай божество древних тюрков в свете этнографических данных // Тюркологический сборник, 1972. — М., 1973. -С. 265-286.
258. Потапов Л. П., 1978. Древнетюркские черты почитания Неба у саяно-алтайских народов // Этнография народов Алтая и Западной Сибири. -Новосибирск, 1978.
259. Потапов Л. П., 1979. «Йер суб» в орхонских надписях // Советская тюркология. 1979. — № 6.
260. Пропп В. Я., 1976. Фольклор и действительность. -М., 1976
261. Пубаев P. E., 1974. Материалы по истории монголов в труде «Пагсам-чжонсан» Ешей-Балчжора // Исследования и материалы по Монголии. Улан-Удэ, 1974. -С. 188-195.
262. Пубаев P. E., 1981. «Пагсам-чжонсан» памятник тибетской историографии XVIII века. — Новосибирск, 1981. 307 с.
263. Пуллиблэнк Э., 1986. Язык сюнну // Зарубежная тюркология. М., 1986. — С. 29-70.
264. Путилов Б. Н. 1975. Типология фольклорного историзма // Типология народного эпоса. -М., 1975.
265. Пухов И. В., 1975. Героический эпос тюрко-монгольских народов Сибири. Общность, сходства, различия // Типология народного эпоса. -М» 1975. -С. 12-63. 309
266. Пэрлээ X., 1956. Монголын туухийн урьд мэдэгдээгуй зарим он цагийн мэдээ. Некоторые неизвестные даты истории Монголии. -Улаанбаатар, 1956.
267. Рашид-ад-дин, 1952. Сборник летописей. -М.; Л., 1952. -Т. 1, кн. 1,2.
268. Радлов В. В., 1892,1896. Атлас древней Монголии // Тр. Орхонской экспедиции. Вып. 1. — СПб., 1892; Вып. 3. — 1896.
269. Радлов В. В. 1893. К вопросу об уйгурах. СПб., 1893
270. Рерих Ю. Н., 1982. По тропам Срединной Азии. Хабаровск, 1982. 304 с.
271. Рона-Таш А., 1974. Общее наследие или заимствование? // ВЯ, 1974, №2.
272. Румянцев Г. Н., 1962. Происхождение хоринских бурят. Улан-Удэ, 1962. 265 с.
273. Румянцев Г. Н., 1963. О некоторых вопросах этногенеза монголов и бурят // Тр. XXV Междунар. конгресса востоковедов в Москве, 1960. -Т. 5. -М., 1963. С. 319-325.
274. Савинов Д. Г., 1980. Изображения собак на оленных камнях // Скифо-сибирское культурно-историческое единство. Кемерово, 1980.
275. Савинов Д. Г., 1981. Антропоморфные изваяния и вопрос о ранних тюркокыргызских связях // Тюркологический сборник, 1977. М., 1981. — С. 232-248.
276. Савинов Д. Г., 1984. Народы Южной Сибири в древнетюркскую эпоху. -Л., 1984. 175 с. 310
277. Савинов Д. Г., Членова Н. Л., 1978. Западные пределы распространения оленных камней и вопросы их культурно-исторической принадлежности // Археология и этнография Монголии. Новосибирск, 1978. — С. 79-94.
278. Санжеев Г. Д., 1965. Сравнительно-исторические исследования в алтаистике // Лингвистическая типология и восточные языки. М., 1965.
279. Свинин В. В., 1974. Основные этапы древней истории населения побережья озера Байкал // Древняя история народов юга Восточной Сибири. Иркутск, 1974. -В. 2. — С. 7-24.
280. Свинин В В., Зайцев М. А., 1982. К вопросу о так называемых «шатровых могилах» // Проблемы археологии и перспективы изучения древних культур Сибири и Дальнего Востока. Якутск, 1982.
281. Свинин В. В., Зайцев М. А., Дашибалов Б. Б., 1982. Новый курумчинский (курыканский) памятник Хужир-Ш // Проблемы археологии и этнографии Сибири. Иркутск, 1982. — С. 126-128.
282. Седякина Е. Ф., 1965. Могильник Усть-Талысин // Тр. БКНИИ СО АН СССР. Сер. востоковед. Вып. 16. — Улан-Удэ, 1965. -С. 196-202.
283. Седякина Е. Ф. Курыканы // История Сибири. Л., 1968. — Т. 1. — С. 129-296.
284. Соколова З. П., 1972. Культ животных в религиях. М., 1972.
285. Сосновский Г. П., 1933. Древнейшие следы скотоводства в Прибайкалье // Изв. ГАИМК. 1933. — Вып. 100. -С 210-222.
286. Сосновский Г. П., 1941. Плиточные могилы Забайкалья //ТОИПК ГЭ. 1941. -Т. 1 -С. 273-309.
287. Сосновский Г. П. Забайкальский карасук // Архив ЛОИА АН СССР, ф. 42, арх. 172,173.
288. Сосновский Г. П. Архив ЛОИА АН СССР, ф. 42, д. 235, 236, 237. 311
289. Стеблева И. В., 1972. К реконструкции древнетюркской религиозно-мифологической системы // ТС -1971. М.,1972.
290. Степи Евразии в эпоху средневековья. М., 1981. — С. 59-61.
291. Степная полоса азиатской части СССР в скифо-сарматское время. -М» 1992
292. Суразаков С. С., 1985. Алтайский героический эпос. -М., 1985. 256 с.
293. Сухбаатар Г., 1971. Сяньби. Улаанбаатар, 1971. 217 с.
294. Сухбаатар Г. 1980. Монголчуудын эртний овог. Улаанбаатар, 1980. 288 с.
295. Сухбаатар Г., 1992. Монгол нирун улс. Улаанбаатар, 1992. 278 с.
296. Страны и народы. Общий обзор. -М.: «Мысль», 1978.
297. Сэр-Оджав Н., 1971. Древняя история Моноголии (XIVb. до н. э. -ХПв. н. э.) // Автореферат докторской диссертации. Новосибирск, 1971. 28 с.
298. Талько-Грынцевич Ю. Д., 1900. Древние обитатели Центральной Азии // Тр. ТКОПОРГО. Т. 2. — Вып. 1, 2. -М., 1900. — 61-76.
299. Талько-Грынцевич Ю. Д., 1902. Археологические памятники долины р. Хилка // Тр. ТКОПОРГО,. Т. 3. — Вып. 1. — Иркутск, 1902. — С. 458.
300. Талько-Грынцевич Ю. Д., 1902. Материалы к палеоэтнологии Забайкалья // Тр. ТКОПОРГО. Т. 1. — Вып. 3. — М., 1900; — Т. 4. -Вып. 2. -М., 1902. -С. 32-59.
301. Талько-Грынцевич Ю. Д., 1905-1906. Древние обитатели Забайкалья в сравнении с современными инородцами // Тр. ТКОПОРГО. Т. 8. -Вып. 1. — СПб., 1905-1906. — С. 32-47.
302. Талько-Грынцевич Ю. Д., 1928. Население древних могил и кладбищ Забайкальских. Верхнеудинск, 1928. 13 с. 312
303. Таскин В. С., 1979. Китайские источники о древних тюркских и монгольских племенах // П. И. Кафаров и его вклад в отечественное монголоведение. Мат-лы конф. — Ч. 2. — М., 1979.
304. Таскин В. С., 1984. Значение китайских источников в изучении древней истории монголов // Мат-лы по истории древних кочевых народов группы дунху. М., 1984. — С. 3-62.
305. Ташак В. И., 1996. О двух традициях каменной индустрии в мезолите Западного Забайкалья // Археология, палеоэкология и этнология Сибири и Дальнего Востока. Тез. док. XXXVI PACK, ч. 1. -Иркутск, 1996. — С. 52-54.
306. Токарев С. А., 1964. Проблемы типов этнических общностей (К методологическим проблемам этнографии). ВФ, 1964, №11. — С. 53
307. Токарев С. А., 1982. О культе гор у народов Евразии // Советская этнография. 1982. — № 3.
308. Тулохонов М. И.,1989. Генеалогические легенды и предания как источник по этнической истории бурят // Этнокультурные процессы в Юго-Восточной Сибири в средние века. Новосибирск, 1989. — С. 164-172.
309. Тумэн Д., 1985. Вопросы этногенеза монголов в свете данных палеоантропологии: Автореф. дис. канд. наук. -М., 1985. 20 с.
310. Тянь Гуаньцзинь, 1983. Цзиньняньлай нэймэнгу дицюйдэ еюнну каогу. Археологические исследования хунну в районе Внутренняя Монголия за последние годы // Каогу сюэбао. — 1983. — № 1. — С. 724.
311. Уланов А. И., 1963. Бурятский героический эпос. Улан-Удэ, 1963. 220 с.
312. Урбанаева И. С., 1992. Концепции Байкальской культуры: идея суперэтнической традиции // Философия и история культуры: национальный аспект. Улан-Удэ, 1992. — С. 7-28. 313
313. Урбанаева И. С., 1995. Человек у Байкала и мир Центральной Азии: философия историй. Улан-Удэ, 1995. 289 с.
314. У Энь, 1990. Лунь сюнну каогу яньцзючжундэ цзигэ вэньти // Каогу сюэбао. 1990. — № 4. — С. 409-437.
315. У Энь, Чжун Кань, Ли Цзиньцзэн, 1988. Нинся тунсиньсянь даоуньцзы сюнну муди // Каогу сюэбао. 1988. — № 3. — С. 333-356.
316. У Энь, Чжун Кань, Ли Цзиньцзэн, 1990. Могильник сюнну в деревне Даодуньцзы уезда Тунсинь в Нинся // Китай в эпоху древности. -Новосибирск, 1990. С. 88-101.
317. Хамзина Е. А., 1970. Археологические памятники Западного Забайкалья. Улан-Удэ, 1970. 142 с.
318. Хамзина Е. А., 1984. Археологические памятники Бурятии. Улан-Удэ, 1984. 153 с.
319. Хангалов М. Н., 1958-1960. Собрание сочинений. Улан-Удэ, 1958. -Т. 1; 1960. -Т. 2, 3.
320. Хлобыстина М. Д., 1971. Древнейшие южносибирские мифы в памятниках окуневского искусства // Первобытное искусство. -Новосибирск, 1971. С. 165-180.
321. Хлобыстина М. Д., 1978. Тотемно-космогонические образы в искусстве южносибирской бронзы // У истоков творчества. (Первобытное искусство). Новосибирск, 1978. — С. 115-163.
322. Хлопин И. Н., 1981. Образ быка у первобытных земледельцев в Средней Азии // Древний Восток и мировая культура. М., 1981. — С. 26-30.
323. Худяков Ю. С., 1987. Херексуры и оленные камни // Археология, этнография и антропология Монголии. Новосибирск, 1987. — С. 136-162. 314
324. Худяков Ю. С., 1999. Материалы хуннского времени в музеях Восточного Туркестана // Древности Алтая. Горноалтайск, 1999. -С. 152-159.
325. Цыбиков Г. Ц., 1981. Шаманизм у бурят-монголов // Избранные труды. Новосибирск, 1981. -Т. 2. — С. 169-177.
326. Цыбиктаров А. Д., 1988. О датировке керексуров в Южной Бурятии, Северной и Центральной Монголии // Хронология и культурная принадлежность памятников каменного и бронзового веков Южной Сибири. Барнаул, 1988. — С. 130-132.
327. Цыбиктаров А. Д., 1989. Культура плиточных могил Забайкалья и Монголии: Автореф. канд. дис. -М., 1989. 24 с.
328. Цыбиктаров А. Д., 1995. Херексуры Бурятии, Северной и Центральной Монголии // Культуры и памятники бронзового и раннего железного веков Забайкалья и Монголии. Улан-Удэ, 1995. -С. 38-47.
329. Цыбиктаров А. Д., 1998. Культура плеточных могил Монголии и Забайкалья. Улан-Удэ, 1998. 288 с.
330. Цыбиктаров А. Д., 1998а. Предварительные результаты раскопок могильника эпохи поздней бронзы Баин-Улан в Южной Бурятии // Археология и этнография Сибири и Дальнего Востока. Тез. док. XXXVIII РАЭСК. — Улан-Удэ, 1998. — С. 76-78.
331. Цыбиктаров А. Д., 1999. Плиточные могилы и херексуры Южной Бурятии в свете изучения некоторых проблем бронзового века Центральной Азии // Палеоэкология человека Байкальской Азии (путеводитель к полевым экскурсиям). Улан-Удэ, 1999. — С. 65-76.
332. Цыдендамбаев Ц. Б., 1969. Периоды истории бурят по данным тотемных культов // Мат-лы конф. «Этногенез народов Северной Азии». Вып. 1. — Новосибирск, 1969. — С 174-176. 315
333. Цыдендамбаев Ц. Б., 1972. Бурятские исторические хроники и родословные. Улан-Удэ, 1972. 664 с.
334. Цыремпилов В. Б., 1990. Об этимологии терминов «монгол», «хори» и «бурят» // Актуальные проблемы истории Бурятии. Улан-Удэ, 1990. — С. 17-32.
335. Цэвэндорж Д., 1978. Чандманьская культура // Археология и этнография Монголии. Новосибирск, 1978. — С. 108-118.
336. Чагдуров С. Ш., 1980. Происхождение Гэсэриады. Новосибирск, 1980. 272 с.
337. Чагдуров С. Ш., 1993. Поэтика Гэсэриады. Иркутск, 1993. 368 с.
338. Чагдуров С. Ш., 1997. Эргунэ-хун прародина монголоязычных родов и племен // VII Международный конгресс монголоведов (Улан-Батор, август 1997 г.) : Докл. российской делегации. — М., 1997. — С. 168- 172.
339. Чагдуров С. Ш., 1998. Горная Бурятия прародина всех монголов // Филологический сборник. — Улан-Удэ, 1998. — С. 190-193.
340. Чебоксаров H. H., 1967, Проблема типологии этнических общностей в трудах советских ученых // СЭ, 1967, №4.
341. Чебоксаров H. H., Чебоксарова И. А., 1985. Народы, расы, культуры. -М., 1985. 272 с.
342. Членова Н. JL, 1962. Об оленных камнях Монголии и Сибири // Монгольский археологический сборник. -М., 1962. С. 27-35.
343. Членова Н. Л., 1967. Происхождение и ранняя история племен тагарской культуры. -М., 1967. 299 с.
344. Членова Н. Л., 1984. Оленные камни как исторический источник. -Новосибирск, 1984. 100 с.
345. Шаракшинова Н. О., 1962. Миф о Буха-Нойоне // Этнографический сборник БКНИИ СО АН СССР. Вып. 3. — Улан-Удэ, 1962. — С. 128137.

Монгол-ун нигуча тобчиян (Сокровенное сказание монголов)
в Источники по истории Евразии
Опубликовано
http://vk.com/mongols?w=wall-3215805_21520#/?w=wall-3215805_21520
Это перевод со старомонгольского как сделали ребята из Монголии и как сделал перевод гореисторик Данияров Калибек.
Казахский историк Д.Калибек попробовал перевести стих на средневековым монгольском языке. По мнению казахов и того историка транскрипция старомонгольского в латинице и им все почти понятно. На самом деле казахи не могут понять, потому что монгольский язык совершенно чужой для них.
Вот стихотворение на древнем монгольском и на совр.мнг языке:
Erte udur – ece jeeinjisun okin-o- Onketen;\мнг:Эрт өдрөөс шинжсэн охин Онгэтэн;
ulus ulu temecet-\мнг:улс улу тэмцээд
Qasar qoa okid-i----\мнг:хацар гоа охидыг
Qaqan boluqsan – a taho---\мнг:Хаан болсон та хө
Qasaq terken – tur unoiju---\мнг: Хасаг тэргэндээ унаж
Qara buura kolkeji------\мнг:хар буураа хөллөж-
Qataralsu otcu-------\мнг:Хатирлаж одсу-\
Qatun saulumu ba----\мнг:Хатан суулгаму ба-
Ulus irken ulu te temecet ba---\мнг:улс иргэн vлV дэ тэмэцэд ба--
Onke sait Okid-iyen ockeju---\мнг:онго сайт охидоо өсгөж--
Olijke tai terken-tur unouliu---\мнг:өлжигөтой тэргэнд унуульюу-
Ole buura kolkeju---\мнг:өл буураа хөллөж---
Euskeju otcu---\мнг:vvсгэж одсу---
Undur saurin-tur---\мнг:өндөр суурин дур-
Orecle etet sauqui ba---\мнг: өргөл эдэд суугуй ба---\
Erfenece Kunqirat irket.---\мнг:эртнээс хонгираад иргэд---
С давних пор выбирают наших дочерей
Прекраснолицых наших девушек
Вам, ставшим хаганами (отдали)
На высоких, быстрых телегах мы ездим
Черных верблюдов (самцов) в них запрягаем
И быстрым бегом пускаем
Госпожами становятся
С подданными других улусов противостоят
Самых лучших дочерей отдаем
На быстрые телеги их садим
Верблюдов в них запрягаем
И (к вам) везем
На высоком месте восседают
С давних пор хонгиратские подданные
Любой монгол прочитав это стихотворение сходу поймет, что тут восхваляет красивых,прекраснолицых хонгираатских девушек, которые с давних пор замуж выходят за хааном, становятся ханшой\госпожой\.Хонгираат-монгольское племя.Они сейчас и живут в Монголии.
А тут самое интересное тот самый историк Д.Калибек "перевел" в кавычках))):
1.Qacar – Гасыр – Эпоха\ какая вообще ЭПОХА, тут слово Хацар-щеки,лицо, тем более здесь идет монгольское словосочетание Qasar qoa-хацар гоо-прекраснолицая, \
2.Qatun – Катын – Жена\хатан-это госпожа, ханша на монгольском. С хатаном грех ошибаться.\
3. Okid-i – Окыйды – Учит\ппц просто,какой еще Учит- это на мнг Okid-i- охидийг- девушек \
4. Qaqan – Каган – Правитель; \Хаган,хан на мнг. тут просто нельзя ошибаться. Во многих языках хаган,хаг,каган -король,правитель,глава\
5. Qasaq terken tyr – Іазає тјркін тЅр – Стоят казахские родственники жены------тут просто смех пробирает))) какие боже мой казахские родня стоят))) на монгольском тут написано Хасаг тэргэн дур- означает в БОЛЬШОЙ ТЕЛЕГЕ.
6. Erfenece kunqirat irken – Ерте"нен конрат еркін – С давних пор конраты свободны.-----тут еще смешнее , нет слово свобода. Просто написано с давних пор хонгираады и все.
Главное ,обратите внимание на его перевод, почему он не смог дословно написать на своем казахском как на монгольском мы написали за 30 минут. Видно что примерно как то нафантазировал, и назвал переводом. Таким образом человек хотел показаться понимающим языка Чингис хаана, в деле прекрасно доказал ,что не имеет ничего общего с языком великих предков монголов.